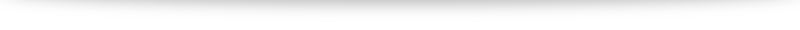В повести «Собачье сердце» М. Булгаков поднимает важные нравственные и общественные вопросы, один из которых — может ли в обществе жить человек с собачьим сердцем?
В начале повести мы видим Шарика — бездомного, вечно голодного и холодного пса, бродящего по подворотням в поисках пищи. Его глазами читатель представляет не парадную, а серую, промозглую, неуютную Москву двадцатых годов. Мы проникаемся искренним сочувствием к бедняге, никогда не знавшему ласки и тепла.
Исповедь Шарика печальна: «Не били вас сапогом? Били. Кирпичом по ребрам получали? Кушано достаточно. Все испытал, с судьбою своей мирюсь и если плачу сейчас, то только от физической боли и от голода, потому что дух мой еще не угас». Это было умное, благородное, доброжелательное, безобидное животное. Шарик по-собачьи жалел секретаршу, оказавшуюся на морозе в тонких чулках, зная о ее «копеечной» жизни. Он любил и уважал профессора Преображенского не только за теплое, уютное жилье и вкусную пищу. Пес наблюдал, как выглядит Филипп Филиппович, как работает, как к нему относятся другие люди. Понимал, что это состоятельный господин, уважаемая личность. Кроме того, он добрый.
Казалось бы, в процессе очеловечевания Шарик должен стать человечней, но на самом деле получилось обратное. В Шарикове изначально проявлялась неспособность сочувствовать чужой беде и чувство благодарности за добро, а самое низменное и пошлое, что запечатлелось в его памяти и досталось по наследству от алкоголика Клима Чугункина.
Неслучайно автор включает в повествование краткую характеристику этого персонажа. В дневнике Борменталя читаем: «Клим Григорьевич Чугункин, 25 лет, холост. Беспартийный, сочувствующий. Судился три раза и оправдан: в первый раз благодаря недостатку улик, второй раз происхождение спасло, в третий раз — условно каторга на 15 лет. Кражи. Профессия — игра на балалайке по трактирам».
Речь Шарикова после операции пестрит вульгарными выражениями («В очередь, сукины дети, в очередь», «подлец»). Внешне он так же неприятен: «Человек маленького роста и небритой наружности… с мутноватыми глазками», «На шее у него был повязан ядовито-небесного цвета галстук с фальшивой рубиновой булавкой».
Все попытки привить Шарикову хотя бы первичные навыки культурного поведения и общения дают отрицательный результат. Зато влияние домкома Швондера, который не отягощает «нового человека» никакими культурными программами, кроме революционной — кто был ничем, тот станет всем, — очень эффективно. Это его словами говорит Шариков: «Где уж! Мы в университетах не обучались, в квартирах по пятнадцать комнат с ваннами не жили. Только теперь пора бы это оставить… Каждый имеет свое право».
Шариков понял, что он «труженик», потому что не непман и не профессор, живущий в семи комнатах и имеющий сорок пар штанов. «Труженик», потому что у него нет собственности. Он быстро научился требовать, не испытывая никакого стыда и смущения перед Преображенским.
Шариков почуял, что на профессора можно давить, заявлять право на имя, на документы, жилплощадь. А на каком основании? На основании новой идеологии, провозгласившей главенство пролетариата, — в большей степени людей недалеких, не знающих, что делать с полученной властью. Шариков — гиперболизированное, изуродованное отражение «трудового элемента».
Парадоксально выглядит ситуация, когда Шариков гордо отстаивал свое гражданское право иметь имя и документы, а мгновение спустя, устроив в квартире потоп из-за кошки, испугался, как жалкое животное.
Швондер борется за душу Шарикова, прививая ему нахрапистость, высокомерие к культуре: «Хочу мять цветы — и буду, хочу мочиться мимо унитаза — мое право, хочу сделать политическую карьеру в государстве Швондеров — потесню кого-нибудь и сделаю». Вот плоды революционного «окультуривания» масс. Булгаков солидарен с Борменталем: «Вот, доктор, что получается, когда исследователь, вместо того, чтобы идти параллельно с природой, форсирует вопрос и поднимает завесу: на, получай Шарикова и ешь его с кашей».
В Шарикове с каждым днем растет фантастическая наглость. Он неуважительно обращался с профессором, фамильярно называл его «папашей». Для него не существовало такого понятия, как чувство собственного достоинства. Этот человек считал, что профессор обязан его обеспечивать. В конце концов, Шариков стал опасен для жизни. Преображенский решает исправить свою ошибку: Шариков снова становится добрым, безобидным псом Шариком. Его монологом заканчивается произведение: «Прописался я здесь…».
Шарик-рассказчик, безусловно, стоит на более низкой ступени, чем профессор Преображенский и Борменталь, но его уровень развития гораздо выше Швондера и Шарикова. Такое промежуточное положение Шарика-собаки в произведении подчеркивает драматическое положение человека, стоящего перед выбором — либо следовать законам естественной социальной и духовной эволюции, либо пойти по пути нравственной деградации. Шариков, возможно, не имел такого выбора. Он — человек «искусственный», имеющий наследственность собаки и пролетария. Но такой выбор был у всего общества, и только от человека зависело, какой путь он изберет.