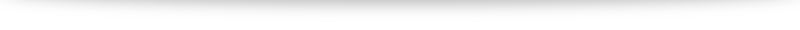Основополагающий для знаменитой поэмы А. Твардовского военный материал предопределяет трагедийную доминанту художественного мировидения и, казалось бы, трудно совместим со сферой эстетического. Однако в исследованиях не раз обращалось внимание на присутствие в поэтической картине мира авторской рефлексии о прекрасном и путях его воплощения в эмпирической действительности; на то, что сам «Василий Теркин заявлен как носитель эстетического идеала»[i]. Эти наблюдения носят, впрочем, спорадический характер, не уясненными остаются как соотношение различных сфер эстетического, так и авторские подходы к их интерпретации.
Начиная с вводной главки («От автора»), прорисовывается сквозная для поэмы художническая рефлексия о создаваемом произведении — «книге про бойца… без начала, без конца»[ii]. Впоследствии эти размышления входят в дискурсивное поле прямых обращений к читателю-собеседнику («Я — любитель жизни мирной — // На войне пою войну»), оборачиваются моделированием воображаемого диалога с ним:
А читатель той порою
Скажет:
— Где же про героя?
Это больше про себя.
Про себя? Упрек уместный,
Может быть, меня пресек. ледствии эти размышления входят в дискурсивное поле првого разговорадаваемом произведении — «ичных сфер эстетического, так
Стержневым в лирических отступлениях становится лейтмотив дружбы автора с центральным героем («Не шутя, Василий Теркин, // Подружились мы с тобой»), через которого устанавливается атмосфера задушевного общения с читателем («Всем придешься ты по нраву, // А иным войдешь в сердца»), а в конечном итоге выстраивается целостная система взаимодействия субъектов эстетического переживания: автор — произведение — герой — читатель. Поэт предстает в образе «певца смущенного, петь привыкшего на войне» и постигает особенности бытования и восприятия художественного текста во фронтовой повседневности, его усвоения сознанием воюющего бойца:
На войне, как на привале,
Отдыхали про запас,
Жили, «Теркина» читали
На досуге… («В наступлении»)
Пусть читатель вероятный
Скажет с книжкою в руке:
— Вот стихи, а все понятно,
Все на русском языке… («От автора»)
Присущее военной реальности теснейшее сопряжение жизни со смертью особым образом воздействует на внутренний «возраст» книги, которая метафорически рисуется в качестве мыслящей и чувствующей субстанции, прорастающей из «земных» корней своего исторического времени и устремляющейся в бесконечность:
Скольких их на свете нету,
Что прочли тебя, поэт,
Словно бедной книге этой
Много, много, много лет.
И сказать, помыслив здраво:
Что ей будущая слава!
Что ей критик, умник тот,
Что читает без улыбки,
Ищет, нет ли где ошибки, —
Горе, если не найдет.
Вводной главкой открываются раздумья автора и об эстетике народного слова, которое на фронте способно прочнее связать человека с жизнью. В интуициях о том, что не прожить «от бомбежки до другой // Без хорошей поговорки // Или присказки какой», проявляются не уничтожаемые опасностями войны эстетические запросы личности. А в главе «На привале» полушутливый вопрос Теркина бойцам («А кому из вас известно, // Что такое сабантуй?») позволяет заглянуть в смысловые глубины поэтически звучащей народной речи. Любуясь красотой меткого устного слова («Хорошо, когда кто врет // Весело и складно»), автор дивится тому, как различение «малого», «среднего» и «главного» сабантуя позволяет емко охватить многоразличные перипетии противостояния врагу — от «первой бомбежки», минометного обстрела до встречи с вражескими танками. Поэтически-иносказательное слово в устах бойца становится осязаемой явью:
Сабантуй — одно лишь слово —
Сабантуй!.. Но сабантуй
Может в голову ударить,
Или, попросту, в башку…
Творческая сила «шутки-поговорки» искусно передается в поэме стилевой синергией прямой речи центрального героя, отливающейся в емкие афоризмы («Не горюй, у немца этот — // Не последний самолет»; «А еще нельзя ли стопку, // Потому как молодец?»), и собственно авторского слова — как, например, в развернутом описании ночующего в полевых условиях бойца:
Тяжела, мокра шинель,
Дождь работал добрый.
Крыша — небо, хата — ель,
Корни жмут под ребра.
Спит, забыв о трудном лете.
Сон, забота, не бунтуй.
Может, завтра на рассвете
Будет новый сабантуй. («На привале»)
Предметом эстетического осмысления становится и энергия боевого, призывного слова («Взвод! За Родину! Вперед!»), которое, несмотря на частую повторяемость, вновь и вновь «вступает» в душу «властью правды и печали, // Сладкой горечи святой». В то же время пребывание на фронте не вытравляет из души героя и автора навеянного воспоминаниями о родных краях песенно-поэтического слова. Здесь запечатлевается сам процесс естественного рождения «этой песни или речи», элегическая мелодия которой обретает постепенную вербализацию:
И в пути, в горячке боя,
На привале и во сне
В нем жила сама собою
Речь к родимой стороне:
— Мать-земля моя родная,
Сторона моя лесная,
Приднепровский отчий край,
Здравствуй, сына привечай!.. («На Днепре»)
Интуиция о собирательном характере авторства этой «грядущей громкой песни о Днепре», «о страде неимоверной // Кровью памятного дня» свидетельствует в то же время о весомости авторской индивидуальности, ее непосредственного, живого опыта: «Но о чем-нибудь, наверно, // Он не скажет за меня… // Я там был. Я жил тогда…».
Подчеркивая при описании Теркина второстепенность внешней привлекательности («Красотою наделен // Не был он отменной»), автор сосредотачивается на изображении красоты душевного склада личности, однако идет к ее постижению не через углубленный психологический анализ, но через раскрытие эстетики бытового поведения.
Так, в передаче самоощущения и поведения солдата на фронте («Курит, ест и пьет со смаком // На позиции любой») становится очевидной красота народного устояния в исторических испытаниях. А в главе «Два солдата» в воссоздании сцен домашней жизни стариков автор выдвигает на первый план эстетику мирного труда, формирующего человеческую душу. Это становится значимым в эпизодах починки Теркиным старой пилы («Завалящая пила // Так-то ладно, так-то складно // У него в руках пошла»), давно остановившихся часов («Но куда-то шильцем сунул, // Что-то высмотрел в пыли»).
Особым предметом изображения выступает в поэме эстетика домашней жизни русского человека, вбирающая культуру бытового общения, дружеского, семейного застолья и даже бодрящего тело и душу мытья в бане… В главе «Перед боем» красноречивыми деталями проведено разграничение будничного и торжественного состояний в домашнем быту принимающей солдат жены командира: «Полотенца с петухами // Достает, как для гостей». При посещении же Теркиным стариков («Два солдата») эстетическое начало обнаруживается в органичной степенности и неторопливости застольного общения, протекавшего «так-то ладно, так-то складно // Поглядишь — захочешь есть». Эстетическим смыслом наполняется здесь и жестовая пластика при описании героя («все припомнил, все проверил»; «И, как долг велит в дому, // Поклонился и старухе, // И солдату самому»). Примечательна здесь «драматургия» разговора Теркина со стариком об исходе войны. На прямое вопрошание старика («Побьем мы немца // Или, может, не побьем?») герой отвечает не сразу, но, ощущая серьезность разговора, берет естественную паузу («Погоди, отец, наемся, // Закушу, скажу потом») и вкладывает в краткий ответ всю душевную энергию: «Побьем, отец».
В эстетическом запечатлении «банного труда желанного» («В бане») постигаются внешне несхожие проявления народного характера, с его «лихим удальством», любовью к «празднику силы всякому» — и одновременно неспешной сосредоточенностью, внутренней силой, предопределяющей готовность к подвигу:
И с почтеньем все глядят,
Как опять без паники
Не спеша надел солдат
Новые подштанники.
В гимнастерку влез солдат,
А на гимнастерке —
Ордена, медали в ряд
Жарким пламенем горят…
Немаловажное место занимает в произведении прямое изображение сферы искусства и ее места в повседневной фронтовой жизни. Основное внимание в этом плане уделено игре на гармони, мастерами которой выступают и Василий Теркин («Гармонь»), и его несостоявшийся «двойник» Иван Теркин («Теркин — Теркин»). Со знанием дела показывается подготовка сноровистого гармониста к игре («Для началу, для порядку // Кинул пальцы сверху вниз»). Начавшись в сугубо личностном, индивидуальном ключе, с припоминания «стороны родной смоленской // Грустного памятного мотива», теркинская игра обнаруживает в себе колоссальный коммуникативный потенциал и стихийно, исподволь для самого исполнителя становится рассказом о судьбах до сих пор незнакомых Теркину трех танкистов, потерявших своего командира — тоже увлеченного гармониста:
И, сменивши пальцы быстро,
Он, как будто на заказ,
Здесь повел о трех танкистах,
Трех товарищах рассказ.
Не про них ли слово в слово,
Не о том ли песня вся.
И потупились сурово
В шлемах кожаных друзья.
В развернутых раздумьях о силе искусства автор выдвигает на первый план эстетику живого отклика, индивидуальную и в то же время широко собирательную адресацию произведения. Теркинская игра, свободно переходящая от «грустного напева» к веселым плясовым ритмам, раскрывает неисчерпаемые для народной души ресурсы превозмогания тяжких потрясений: «Все, что может быть на свете, // Хоть бы что — гудит гармонь». Сходный психологический смысл получает и артистическое поведение центрального героя в непростых житейских обстоятельствах — как, например, в главе «О потере», где он творчески представляет, как будет возвращать медсестре позаимствованную у нее некогда шапку: «Как на сцене, с важным жестом // Обратился будто к той…».
Многосложной сферой эстетического изображения выступает в поэме и собственно военная действительность, выведенная как в частных, так и в панорамных картинах. Это красота солдатской выправки, помогающая выстоять в испытаниях войны («Доложил по форме, словно // Тотчас плыть ему назад») и ободряющая многих на поле боя. При изображении «лейтенанта щеголеватого», который бесстрашно повел вперед свой взвод, ярко выраженное эстетическое восприятие способствует усилению героико-трагедийного эффекта:
— Молодцы! Вперед, ребята! —
Крикнул так молодцевато,
Словно был Чапаев сам.
Только вдруг вперед подался,
Оступился на бегу,
Четкий след его прервался
На снегу… («В наступлении»)
Легендарные «чапаевские» ассоциации приобретают эстетический смысл и при описании наградившего Теркина генерала («Генерал»): «Есть привычка боевая, // Есть минуты и часы… // И не зря еще Чапаев // Уважал свои усы».
Сознательно избегая излишне героизирующего пафоса в изображении войны и потому останавливаясь на таких заведомо «неэффектных» ее эпизодах, как безвестная переправа или бой «за некий, скажем ныне, населенный пункт Борки», поэт привносит, однако, долю эстетического видения батальной панорамы, попутно подчеркивает отталкивающий антиэстетизм в облике врага («До чего же он противный — // Дух у немца из рта»). В главах «Теркин ранен», «В наступлении» глазами воюющих солдат показана неповторимая «окопная» эстетика, которая состоит в любовном одушевлении, «одомашнивании» родной, действующей «в лад» с человеком боевой техники:
Не расскажешь, не опишешь,
Что за жизнь, когда в бою
За чужим огнем расслышишь
Артиллерию свою.
Воздух круто завивая,
С недалекой огневой
Ахнет, ахнет полковая,
Запоет над головой.
А с позиций отдаленных,
Сразу будто бы не в лад,
Ухнет вдруг дивизионной
Доброй матушки снаряд.
И пойдет, пойдет на славу,
Как из горна, жаром дуть,
С воем, с визгом шепелявым
Расчищать пехоте путь… («Теркин ранен»)
Важной гранью художественной баталистики становится в поэме ощущение единства и органичного взаимоусиления разных родов войск, ассоциирующееся с чувством народной сплоченности в совершении ратного подвига:
— Танки действовали славно.
— Шли саперы молодцом.
— Артиллерия подавно
Не ударит в грязь лицом.
— А пехота!
— Как по нотам,
Шла пехота. Ну да что там!
Авиация — и та…
Словом, просто — красота. («В наступлении»)
Применяя композиционный прием мгновенного смещения точки зрения, автор неожиданно переходит от военных сцен к постижению гармонии природы, мирного бытия: «От окопов пахнет пашней, // Летом мирным и простым… // Фронт. Война. А вечер дивный // По полям пустым идет». В одушевляющем изображении природы Твардовский опирается на принципы народнопоэтической образности («Над тобой, над речкой, выплакать, // Может, выйдет мать бойца»), расширяет горизонты художественной картины мира посредством лирических «вкраплений»: «Бой в разгаре. Дымкой синей // Серый снег заволокло». Подобные небольшие вставки достигают иногда масштаба развернутого отступления. В автобиографической главе «О себе» на первый план выступает эстетическое, пропущенное через детское сознание восприятие природного бытия — «милого леса, где я мальчонкой // Плел из веток шалаши». В воспоминаниях лирического «я» прорисовывается не поврежденная последующими потрясениями сфера прекрасного, однако через поэтику экспрессивных отрицаний здесь передается горькое ощущение гармоничного мира на пороге уничтожения («Отчий край, ты есть иль нет?»):
Лес — ни пулей, ни осколком
Не пораненный ничуть,
Не порубленный без толку,
Без порядку как-нибудь;
Не корчеванный фугасом,
Не поваленный огнем…тиэстетизм в облике врага (» — красота.!
Усиления разных родов войск, ассоциирующееся с
Многоплановыми и содержательно богатыми оказываются сферы эстетического в военной поэме А. Твардовского. Центром этого образно-смыслового поля стала сквозная рефлексия творца над создаваемым текстом, над эстетическими взаимодействиями автора, героя, читателя и рисуемой в «книге про бойца» действительности. Это также эстетика бытового поведения, характерная для национальной традиции культура домашнего, повседневного общения; и само искусство как сердцевина жизненного пространства автора и персонажей. В этом ряду — и различные грани батальной эстетики, в которой преломляется мироощущение воюющего солдата; и резко контрастирующая с войной красота природы, мирной жизни, восстанавливающая, в противовес разрушительной стихии лихолетья, единство микро — и макрокосма.