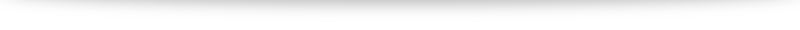Пушкин вобрал в свое творчество все предшествующие эпохи литературы и определил дальнейшие пути развития русского искусства.
И мир фольклора, и античность («Египетские ночи», «Роман о Петронии», антологические стихотворения «Муза» «Юноша и дева» и многое другое), и средневековье («Борис Юдунов», «Сцены из рыцарских времен», «Жил на свете рыцарь бедный «, «Скупой рыцарь», «Пир во время чумы»), и Возрождение («Каменный гость», «Анджело»), и век Просвещения («Сцены из Фауста», «Моцарт и Сальери») — все прошлые лики культуры были родными Пушкину и свободно освоены им. И хотя считают, по логике Сальери («Как некий херувим, он несколько занес нам песен райских…»), что Пушкин после себя школы не оставил, но Лермонтов и Гоголь выросли в восхищении им и отталкивании от него, Тургенев и Гончаров зачарованно стремились к его гармонии и стройности, Достоевский молился на него и проклинал далекость жизни от пушкинской высоты, Л. Толстой, читая «голую» пушкинскую прозу, начинал писать свои романы и явно продолжал мотив пушкинской влюбленности в жизнь. Чехов достиг пушкинской благородной сдержанности, художественного целомудрия, столь свойственного русскому писателю, если он свободен от фанатических идей. И заблуждением было бы считать, как это делают сегодня многие критики, что Пушкин вернулся в русскую литературу лишь в начале XX в. в поэзии А. Ахматовой, М. Кузмина, А. Блока, Н. Гумилева. Пушкин и не уходил из литературы, всегда оставаясь солнцем нашей жизни, мерилом красоты.
Но бурные времена часто оглушены собой и не замечают вечности. Поэтому 60-е гг. XIX в. и эпоха революций XX в. «сбрасывала Пушкина с парохода современности». Однако все эти попытки оканчивались бесславно, ибо Пушкин предвидел и предрек:
И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.
Пока живо искусство, пока в душе человеческой есть жажда безграничности и высоты, Пушкин необходим. Он знал о своем всеобщем признании:
Слух обо мне пройдет по всей Руси великой…
И знал, «какой ценой купил он право» на бессмертие:
И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.
В России нет поэта, слава которого была бы громче пушкинской. И это понятно, Пушкин приобщил к чтению стихов всю Россию. Столичная молодежь распевала «Ноэль», школьники наслаждались «Русланом и Людмилой», простонародье любило сказки и баллады, высший свет был увлечен «Пиковой дамой». В любом поместье знали южные поэмы и «Онегина», а «Черная шаль» стала почти народным романсом. Этот всесословный интерес к Пушкину объясняется не только широтой диапазона его творчества, но той открытостью его высокой поэзии, которая никого из читателей не отторгает высокомерно.
Характерна одна из последних строф восьмой главы «Онегина»:
Кто б ни был ты, о мой читатель,
Друг, недруг, я хочу с тобой
Расстаться нынче как приятель.
Прости. Чего бы ты со мной
Здесь ни искал в строфах небрежных,
Воспоминаний ли мятежных,
Отдохновенья от трудов,
Живых картин, иль острых слов,
Иль грамматических ошибок,
Дай Бог, чтоб в этой книжке ты
Для развлеченья, для мечты,
Для сердца, для журнальных сшибок
Хотя крупицу мог найти.
За сим расстанемся, прости!
Андрей Синявский в «Прогулках с Пушкиным» пытается объяснить это восприятие Пушкина равнодушием, непредпочтенностью чего-либо, непогружением ни во что. Современному читателю трудно даже представить себе цельность Пушкина, безграничность его любви к миру. Но, сам открытый всему, Пушкин хотел и стих свой сделать открытым читателю. Постоянно Пушкин вовлекает читателя в разговор, в сотворчество. «О чем теперь ее мечтанье?» — спрашивает поэт в восьмой главе о Татьяне, которая читает письмо Онегина и «слезы льет рекой, опершись на руку щекой». Пушкин сам не отвечает, а предоставляет возможность читателю войти в роман и продолжать его. Композиция, не имеющая конца, характерная для лирики, драм и прозы Пушкина, также призвана вовлечь читателя в сотворчество. Это лирическое присоединение, предусмотренное пушкинской художественной манерой, создает опасность совершенного читательского произвола. И тому тьма примеров. Но Пушкин, защищаясь от ложных истолкований читателей-современников, не сердится, а ведет себя, как Моцарт в отношении к слепому скрипачу.
Многослойность содержания пушкинских произведений делает их внешне доступными любому читателю. При этом аристократический такт и снисходительность или демократический гуманизм Пушкина не позволяют читателю заметить своей ограниченности. Напротив, каждый убежден в добром расположении поэта к себе и горд полнотой своего понимания. Пушкин дарует щедро счастливую легкость присоединения к высокому, ощущение благородства, полета. Однако иллюзия вседоступности Пушкина вызывала иронию уже среди его современников.
Когда мы читаем письмо незнакомки Чичикову, даже школьники замечают искаженное сходство претенциозных и сентиментальных признаний гоголевской героини с письмом Татьяны, со строками из пушкинских «Цыган».
Пушкин
Я к вам пишу — чего же боле?
…………………………………
Другой!.. Нет, никому на свете
Не отдала бы сердца я!
…………………………………
Вся жизнь моя была залогом
Свиданья верного с тобой;
…………………………………
Не правда ль? я тебя слыхала:
Ты говорил со мной в тиши,
…………………………………
Вообрази: я здесь одна,
Никто меня не понимает,
…………………………………
Что в них? Сейчас отдать я рада
Всю эту ветошь маскарада…
(«Евгений Онегин»)
Когда бы ты вообразила
Неволю душных городов!
Там люди в кучах за оградой
Не дышат утренней прохладой,
Ни вешним запахом лугов?
(«Цыганы»)