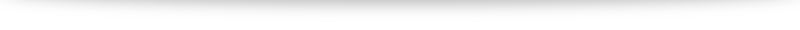«Гроза» — одна из тех пьес А. Н. Островского, которые и в наши дни пользуются неизменной популярностью. В центре авторского внимания находится кризис патриархального мира и патриархального сознания. Но вместе с тем пьеса оказывается гимном живой душе, которая отважилась на смелый протест, на противостояние окаменевшему миру. А эта проблема будет актуальна во все времена.
Классицистическая «окаменелость» персонажей глубоко соответствует всей системе патриархального мира. Это его неспособность к изменениям, его яростное сопротивление всему, что не соответствует его законам, порабощает всех, входящих в круг патриархального мира, формирует души, неспособные существовать вне его замкнутого круга. Безразлично, нравится им эта жизнь или нет — в другой они жить просто не сумеют. Герои пьесы принадлежат к патриархальному миру, и их кровная с ним связь, их подсознательная от него зависимость — скрытая пружина всего действия пьесы; пружина, заставляющая героев совершать по большей части «марионеточные» движения. Автор постоянно подчеркивает их несамостоятельность, несамодостаточность. Образная система драмы почти повторяет общественную и семейную модель патриархального мира. В центр повествования, как и в центр патриархальной общины, помещены семья и семейные проблемы. Доминанта этого малого мирка — старшая в семье, Марфа Игнатьевна. Вокруг нее группируются на различном отдалении члены семейства — дочь, сын, невестка и почти бесправные обитатели дома: Глаша и Феклуша. Та же «расстановка сил» организует и всю жизнь города: в центре Дикой (и не упомянутые в пьесе купцы его уровня), на периферии — лица все менее и менее значительные, не имеющие денег и общественного положения.
От мира Калинов отгородился столь прочно, что вот уже больше века не проникает в город ни одно веяние живой жизни. Посмотрите на калиновского «прогрессиста и просветителя» Кулигина! Этот механик-самоучка, чьи любовь к науке и страсть к общественному благу ставят его на грань юродства в глазах окружающих, все пытается изобрести «перпету-мобиль»: он, бедный, и не слыхал, что в большом мире давным-давно доказана принципиальная невозможность создания вечного двигателя… Он вдохновенно декламирует строки Ломоносова и Державина, и даже сам пишет стихи в их духе… И оторопь берет: будто не было еще ни Пушкина, ни Грибоедова, ни Лермонтова, ни Гоголя, ни Некрасова! Архаизм, живое ископаемое — Кулигин. И его призывы, его идеи, его просветительские монологи об общеизвестном, о давно открытом кажутся калиновцам безумными новшествами, дерзостным потрясением основ:
«Д и к о и. Да гроза-то что такое, по-твоему? А? Ну, говори!
Кулигин. Электричество.
Дикой (топнув ногой). Какое еще там елестричество! Ну как же ты не разбойник! Гроза-то нам в наказание посылается, чтобы мы чувствовали, а ты хочешь шестами да рожнами какими-то, прости Господи, обороняться. Что ты, татарин, что ли? Татарин ты? А? Говори! Татарин?
Кулигин. Савел Прокофьич, ваше степенство, Державин сказал:
Я телом в прахе истлеваю,
Умом громам повелеваю.
Д и к о и. А за эти вот слова тебя к городничему…» Ни громоотводы, ни Ломоносов, ни вечный двигатель Ка-линову не нужны: всему этому попросту нет места в патриархальном мире. А что же происходит за его границами? Там бушует океан, там разверзаются бездны — словом, «Сатана там правит бал». В отличие от Толстого, полагавшего возможным параллельное и независимое существование двух миров: патриархального, замкнутого на себе и неизменного, и современного, постоянно меняющегося, Островский видел их принципиальную несовместимость, обреченность застывшей, не способной к обновлению жизни. Сопротивляясь надвигающимся новшествам, вытесняющей его «всей стремительно несущейся жизни», патриархальный мир вообще отказывается эту жизнь замечать, он творит вокруг себя особое мифологизированное пространство, в котором — единственном — может быть оправдана его угрюмая, враждебная всему чужому замкнутость. Вокруг Калинова творится невообразимое: там с неба падают целые страны, населенные кровожадными народами: например, Литва «на нас с неба упала… и где был какой бой с ней, там для памяти курганы насыпаны». Там живут люди «с песьими головами»; там вершат свой неправедный суд султан Махнут персидский и султан Махнут турецкий.
«Нечего делать, надо покориться! А вот когда будет у меня миллион, тогда я поговорю». Этот миллион даст Кулигину на судилище «право сноса», будет самым веским аргументом в его пользу. А пока миллиона нет, умница Кулигин «покоряется». Покоряются, ведя свою тихую обманную игру, все: Варвара, Тихон, лихой Кудряш, покоряется затянутый уже в замкнутое пространство Калинова Борис. Катерина же покориться не может. Выродившаяся в патриархальном сознании в пустой обряд Вера жива в ней, ее ощущение вины и греха прежде всего личностно; она верует и кается с пылом первых христиан, не закостеневших еще в религиозной обрядности. И это личностное восприятие жизни, Бога, греха, долга выводит Катерину из замкнутого круга и противопоставляет ее калиновскому миру. В ней увидели калиновцы явление куда более чужеродное, чем горожанина Бориса или декламирующего стихи Кулигина. Потому Калинов устраивает над Катериной суд.
В блестящем этюде «А судьи кто?» В. Турбин тонко исследует тему суда в «Грозе»: «Никого не хочет судить Кулигин. С усмешечкой уклоняется от роли судьи простушка Варвара: «Что мне тебя судить? У меня свои грехи есть». Но не им противостоять охватившему Калинов массовому психозу. А психоз разжигают две мельтешащих на сцене чудачки: странница Феклуша и барыня с лакеями». Феклушины повествования о Махнутах и людях в песьими головами представляются Турбину важнейшим элементом поэтики пьесы: «И глядятся друг в друга, будто в зеркало, два мира: фантастический и реальный. И опять мы встречаемся со сборищем монстров, кентавров. Правда, на сей раз их причудливые фигуры — только фон, на котором, по мысли скиталицы-странницы, яснее выступает праведность суда, творимого здесь, в Калинове. Этот суд затаился в ожидании жертвы. И жертва является: в раскатах грома, в сверкании молнии раздается естественное, честное слово взалкавшей очищения грешницы. А что было дальше, слишком известно. Где-то в царстве Махнутов турецкого и персидского Катерину, может быть, помиловали бы; но в Калинове пощады ей нет.
Гонимая в бездну, в пропасть всепроникающим, всенастигающим словом самодеятельного суда, грешница уходит из жизни: «В омут лучше… Да скорей, скорей!»