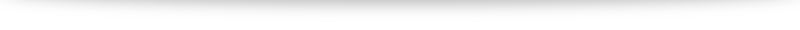Декабристы отправлены в ссылки, а жизнь продолжается: люди женятся, заводят детей, растят их… Но что вырастает из человека, знающего наперед, что ожидает безумца, отступившего от проторенной дорожки? Что вырастает из целого поколения отчаявшихся изменить свою предписанную до рождения судьбу? Об этом Михаил Юрьевич рассказывает нам в «Думе».
Впрочем, поэт, скорее, не рассказывает, а трагично стонет. Белинский оценивал «Думу»: «…это стон человека, для которого отсутствие внутренней жизни есть зло, в тысячу раз ужаснейшее физической смерти». Мертвое внутри поколение «в бездействии состарится», люди его «к добру и злу постыдно равнодушны», «перед опасностью позорно малодушны и перед властию — презренные рабы», «иссушили ум наукою бесплодной», жадно берегут «в груди остаток чувства ничем не жертвуя ни злобе, ни любви», умрут «не бросивши векам ни мысли плодовитой, ни гением начатого труда». Действительно, попытки восстаний после декабристов еще долго не будут предприниматься, Россия не запомнила почти ни одного великого человека того периода, а в «Герое нашего времени» тот же автор подробно описывает, насколько нравственны были люди того времени. Поэта не могла не возмущать столь пустая жизнь, потому он и написал «Думу».
У России нет прошлого: «богаты мы, едва из колыбели, ошибками отцов и поздним их умом» — предки-отцы не смогли задать правильный жизненный путь своим последователям. У родины поэта нет настоящего — мы прочли о пороках его поколения. У нашей отчизны нет будущего — «грядущее — иль пусто, иль темно», «прах наш, с строгостью судьи и гражданина, потомок оскорбит презрительным стихом, насмешкой горькою обманутого сына над промотавшимся отцом». Так думал Лермонтов, разделяя точку зрения Чаадаева, о которой он написал в «Философических письмах». Были и оппоненты: Бенкендорф восхвалял Россию, дивился ее истории, восхищался страной того времени и ожидал невероятных успехов в грядущем. Не все видели проблемы родины, но Михаил Юрьевич попытался открыть людям глаза, в том числе и этим стихотворением.
«Печально я гляжу на наше поколенье!» — так начал свой шедевр Лермонтов. В глаза бросается: «я» отделено от всех остальных современников, наблюдает со стороны. А через несколько строк рассказчик переходит к местоимению «мы», он уже осознает себя частью единого целого, с теми же недостатками, той же бедой. Что же не примеряет на себя поэт? «Его грядущее — иль пусто, иль темно, меж тем, под бременем познанья и сомненья, в бездействии состарится оно», — вот чем автор отличался от современников. И вправду, разве можно назвать такого поэта бездействующим в сомнении, обреченного лишь на пустоту впереди? Нет. И, хотя, завершающие строки написаны с осознанием себя как части поколения: «И прах наш, с строгостью судьи и гражданина, потомок оскорбит презрительным стихом, насмешкой горькою обманутого сына над промотавшимся отцом» — мы, потомки, ценим труды Лермонтова и признаем его великим поэтом, а его стихотворение «Дума» — грандиозным стихотворением.