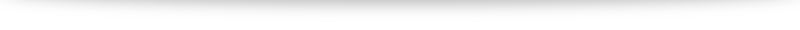Во всей истории русской литературы, за исключением личности Пушкина, с каждым годом и с каждым новейшим исследованием становящейся ближе и ближе к сердцу нашему, мы не находим фигуры более симпатичной, чем фигура поэта Лермонтова. Загадочность, ее облекающая, еще сильнее приковывает к Лермонтову помыслы наши, уже подготовленные к любви и юностью великого писателя, и его безвременною кончиною, и страдальческими тонами многих его мелодий, и необыкновенными чертами всей его жизни. Большая часть из современников Лермонтова, даже многие из лиц, связанных с ним родством и приязнью, говорят о поэте как о существе желчном, угловатом, испорченном и предававшемся самым неизвинительным капризам, — но рядом с близорукими взглядами этих очевидцев идут отзывы другого рода, отзывы людей, гордившихся дружбой Лермонтова и выше всех других связей ценивших эту дружбу. По словам их, стоило только раз пробить ледяную оболочку, только раз проникнуть под личину суровости, родившейся в Лермонтове отчасти вследствие огорчений, отчасти просто через прихоть молодости, — для того чтоб разгадать сокровища любви, таившиеся в этой богатой натуре. Жизнь Лермонтова, до сей поры еще никем не рассказанная, известна нам лишь весьма поверхностно, а между тем она изобилует фактами, говорящими в пользу поэта красноречивее всех дружеских панегириков. Лермонтов умел быть смелым в то время, когда прямая и смелая речь вела к великим бедам, — он заявил свою преданность русской музе в ту пору, когда эта муза могла лишь подвергать своих поклонников гонению и осуждению света. Когда погиб Пушкин, перенесший столько неотразимых обид от общества, еще не дозревшего до его понимания, — мальчик Лермонтов в жгучем, поэтическом ямбе первый оплакал поэта, первый кинул железный стих в лицо тем, которые ругались над памятью великого человека. Немилость и изгнание, последовавшие за первым подвигом поэта, Лермонтов, едва вышедший из детства, вынес так, как переносятся житейские невзгоды людьми железного характера, предназначенными на борьбу и владычество. Вместо того чтоб тосковать в чужом крае и тосковать о столичной жизни, так привлекательной в его лета, — он привязался к Кавказу, сердцем отдаваясь практической жизни, и мало того что приготовил себя самого к разумной военной деятельности, — но с помощью своего великого дарования сделал для Кавказа то, что для России было сделано Пушкиным. Когда быстрая и ранняя литературная слава озарила голову кавказского изгнанника, наш поэт принял ее так, как принимают славу писатели, завоевавшие ее десятками трудовых годов и подготовленные к знаменитости. Вспомним, что Байрон, идол юноши Лермонтова, возился со своей известностью как мальчик, обходился со своими сверстниками как турецкий паша, имел сотни литературных ссор и вдобавок еще почти стыдился звания литератора. Ничего подобного не позволил себе Лермонтов даже в ту пору, когда вся грамотная Россия повторяла его имя. Для этого насмешливого и капризного офицера, еще так недавно отличавшегося на юнкерских попойках или кавалерийских маневрах под Красным Селом, мир искусства был святыней и цитаделью, куда не давалось доступа ничему недостойному. Гордо, стыдливо и благородно совершил он свой краткий путь среди деятелей русской литературы, которая, нечего скрывать, в то время представляла много искушений и много путей к дурному. События последнего, самого великого, самого плодовитого года в жизни знаменитого юноши почти неизвестны. Как человек, Лермонтов, может быть, в эту пору был незамечателен, а временами и грешен, — но как поэт, он, видимо, переживал эпоху необыкновенную (и, по всей вероятности, имевшую влияние на его характер). Он зрел с каждым новым произведением, он что-то чудное носил под своим сердцем, как мать носит ребенка, мотивы невыразимой, подавляющей скорби вырывались у его музы и смешивались с другими восторженно-сладкими звуками. Опыт веков, история литературы всех народов показывают с ясностью, что природа никогда не тратит сил своих по-пустому, не дает писателю, предназначенному на скромную деятельность, — языка и замашек поэта великого. А в 1841 году, за самое короткое время от преждевременной смерти, Лермонтов показал нам все частные особенности поэта истинно великого. Лорд Байрон с гордостью подписал бы свое имя под иными строфами «Сказки для детей», самые возвышенные из песен Гейне не имели в себе столько силы и грусти, как многие из предсмертных песен русского двадцатишестилетнего писателя. Общеевропейская, общечеловеческая физиономия поэта Лермонтова еще не успела высказаться, определиться с ясностью, но все признаки и задатки мирового поэта тут были — начиная с формы стиха, до сих пор недосягаемой по совершенству, до удивительного проникновения в жизнь природы, выразившегося множеством картин, мастерства первоклассного.
Не говорим уже о разнообразии и всесторонности последних пьес Лермонтова, о глубине мысли, проникавшей многие из них, о богатырских порывах к недосягаемому миру, какими они наполнены.
Да, тысяча восемьсот сорок первый год — последний год в жизни поэта нашего — есть истинное чудо в своем роде, и лучшее право Лермонтова на наше восторженное сочувствие. Просмотрите со вниманием оглавление книжки, изданной г-м Дудышкиным, и вы убедитесь в справедливости слов наших. И до этого года поэт был первенствующим деятелем в нашей литературе, — вся его заслуженная слава была основана на творениях предыдущих годов (особенно на «Герое нашего времени»), но потрудитесь взглянуть на список стихотворений, относящихся к последнему году жизни Лермонтова, — и вы увидите, что почти все написанное им прежде, за исключением трех или четырех стихотворений*, и «Герой нашего времени», в свое время сводивший с ума читающую Россию, — все померкнет перед творчеством означенного года. В числе тридцати шести стихотворений, принадлежащих к 1841 году, есть три или четыре заимствованных, даже слабых («Вид гор из степей Козлова», «Кинжал»), но если мы исключим их без сожаления, все-таки количество вещей, написанных в 1841 году, будет равно всему, что было прежде написано Лермонтовым. О внутреннем же достоинстве и говорить нечего. Много поэтов в мире погибало раньше срока — все славнейшие деятели русской поэзии сошли в могилу, не исполнив и половины того, на что их соотечественники могли рассчитывать, — но никогда еще судьба не поступала так жестоко с надеждами, ею же возбужденными, никогда она так безвременно не похищала существа, в такой степени украшенного присутствием гения. Последний, загадочный год в жизни Лермонтова, весь исполненный деятельности, — сокровище для внимательного ценителя, всегда имеющего наклонность заглядывать в «лабораторию гения», напряженно следить за развитием каждой великой силы в мире искусства. Тут на всяком шагу виден новый порыв в сокровеннейшие тайники творчества, — новый шаг к той неразгаданной грани, которая отделяет деятелей гениальных от деятелей высокоталантливых. И вот, кажется, грань перейдена, вот будто послышались небывалые звуки, от которых забьются сердца миллионов людей… все пророчит победу, кажется, одна только минута отделяет нас от новой силы и нового слова, — и вдруг все становится мрачно, все ожидания падают, как здание, выстроенное на песке. Безвременная насильственная смерть заканчивает всю эту великолепную картину, невольная злоба наполняет душу нашу, — злоба на общество, не сумевшее оградить своего певца, злоба на презренные орудия его гибели, злоба на мерзавцев, осмелившихся ей радоваться или холодно встречать весть, скорбную для отечества. И только после долгого озлобления, после долгих уверений самого себя в невозвратимости утраты дух наш успокаивается. Мы принимаем то, что дано нам, снова дивимся песням безвременно погибшего юноши и, проклиная лиц, допустивших его погибель, — все-таки с гордостью убеждаемся, что «не бездарна та природа, не погиб еще тот край», где при стечении самых неблагоприятных случайностей, при полной неспособности общества ценить людей, его возвеличивающих, — все еще появляются личности, подобные поэту Лермонтову.
В издании, принадлежащем С. С. Дудышкину и теперь нами разбираемом, нет биографии Лермонтова, нет даже материалов для его биографии. В этом отношении винить издателя невозможно, для полного жизнеописания еще не пришло время, материалов же готовых слишком мало, неизданных же, может быть, и довольно, но все они раскиданы по рукам людей, весьма мало заботящихся о литературе. Жизнь Лермонтова не была скупа событиями, но многие слишком интимные ее подробности, касаясь людей живых или еще недавно умерших, не могут принадлежать печати. Поэт имел, как говорят люди, его знававшие, небольшое число страстных привязанностей, имевших решительное влияние на его жизнь, касаться их невозможно, когда еще живы женщины, ценимые им выше всего на свете. Умея любить, Лермонтов был и тем, что Байрон называет a good hater, то есть человек, умевший ненавидеть глубоко. Друзей имел он мало и с ними редко бывал сообщителен, может быть, вследствие детской привычки к сосредоточенной мечтательности, может быть, потому, что их интересы совершенно рознились с его собственными. На переписку был он ленив, и хотя, соприкасаясь всем кругом столичного и провинциального общества, имел множество знакомых, но во всех сношениях с ними держал себя скорее наблюдателем, чем действующим лицом, за что многие его считали человеком без сердца. Не надо забывать и влияния Байрона, и многих афоризмов из «Героя нашего времени» — для оценки Лермонтова как человека. По натуре своей горделивый, сосредоточенный, и сверх того, кроме гения, отличавшийся силой характера, — наш поэт был честолюбив и скрытен. Эти качества с годами нашли бы себе применение и выяснились бы в нечто стройно-определенное, — но при молодости, горечи изгнания и байроническом влиянии они, естественно, высказывались иногда в капризах, иногда в необузданной насмешливости, иногда в холодной сумрачности нрава. Вот причина противоречащих отзывов о Лермонтове как о человеке и, может быть, той неохоты писать о нем, какую не раз мы сами подмечали в лицах, имевших кое-что сказать о Лермонтове. Между всеми теми, которых мы в разное время вызывали на сообщение нам воспоминаний о поэте, мы помним только одного человека, говорившего о нем охотно, с полной любовью, с решительным презрением к слухам о дурных сторонах частной жизни поэта, — но и он все-таки решительно отказался набросать хотя несколько заметок о своем покойном друге, отговариваясь ленью и служебными делами. Мы должны прибавить, что последняя причина была уважительна, наш приятель собирался в экспедицию, где и положил свою голову. Дружеские отношения его к Лермонтову были несомненны. За день до своего выступления из города ска, где мы сошлись случайно, — он, укладываясь в поход, показывал нам мелкие вещицы, принадлежавшие Лермонтову, свой альбом с несколькими шуточными стихами поэта, портрет, снятый с него в день смерти, и большую тетрадь в кожаном переплете, наполненную рисунками (Лермонтов рисовал очень бойко и недурно). Картинки карандашом изображали по большей части сцены кавказской жизни, стычки линейных казаков с татарами и т. д. Кой-где между ними были еще стихи — отрывки из известных уже произведений да опять шуточные двустишия и четверостишия, относящиеся к каким-то неизвестным лицам и не имеющие другого значения.
Так как, пользуясь правами рецензента, мы намерены передать читателям кое-что из изустных рассказов приятеля Лермонтова, — то не мешает предварительно сказать два слова о том, какого рода человек был сам рассказчик. Он считался храбрым и отличным кавказским офицером, носил имя, известное в русской военной истории; и, подобно Лермонтову, страстно любил кавказский край, хотя брошен был туда не по своей охоте. Чин у него был небольшой, хотя на лицо мой знакомый казался очень стар и издержан, — товарищи его были в больших чинах, и сам он не отстал бы от них, если б в разное время не подвергался разжалованию в рядовые (два или три раза, — об этом спрашивать казалось неловко). Должно признаться, что знакомец наш, обладая множеством достоинств, храбрый как лев, умный и приятный в сношениях, был все-таки человеком из породы, которая странна и даже невозможна в наше время, из породы удальцов, воспетых Денисом Давыдовым и памятных, по преданию, во многих полках легкой кавалерии. Живи он в двенадцатом году, при широкой дороге для военного разгула и дисциплине, ослабленной необходимостью, его прославляли бы как рубаку и, может быть, за самые шалости его не взыскивалось бы со строгостью, но при мире и тишине дела шли иначе. Молодость его прошла в постоянных бурях, шалостях и невзгодах, с годами все это стало реже, но иногда возобновлялось с великой необузданностью. Но, помимо этих периодических отклонений от общепринятой стези, Дв был человеком умным, занимательным и вполне достойным заслужить привязанность такого лица, как Лермонтов. Во все время пребывания поэта на Кавказе приятели видались очень часто, делали вместе экспедиции и вместе веселились на водах. С годами, — когда подробные рассказы о последних годах поэта будут возможны в печати, — мы передадим на память несколько особенных приключений, а также подробности о последних днях Лермонтова, в настоящее же время, по весьма понятной причине, мы можем лишь держаться общих отзывов и общих рассуждений о его характере.
«Лермонтов, — рассказывал нам его покойный приятель, — принадлежал к людям, которые не только не нравятся с первого раза, но даже на первое свидание поселяют против себя довольно сильное предубеждение. Было много причин, по которым и мне он не полюбился с первого разу. Сочинений его я не читал, потому что до стихов, да и вообще до книг не охотник, его холодное обращение казалось мне надменностью, а связи его с начальствующими лицами и со всеми, что терлось около штабов, чуть не заставили меня считать его за столичную выскочку. Да и физиономия его мне не была по вкусу, — впоследствии сам Лермонтов иногда смеялся над нею и говорил, что судьба, будто на смех, послала ему общую армейскую наружность. На каком-то увеселительном вечере мы чуть с ним не посчитались очень крупно, — мне показалось, что Лермонтов трезвее всех нас, ничего не пьет и смотрит на меня насмешливо. То, что он был трезвее меня, — совершенная правда, но он вовсе не глядел на меня косо и пил сколько следует, только, как впоследствии оказалось, — на его натуру, совсем не богатырскую, вино почти не производило никакого действия. Этим качеством Лермонтов много гордился, потому что и по годам, и по многому другому он был порядочным ребенком.
Мало-помалу неприятное впечатление, им на меня произведенное, стало изглаживаться. Я узнал события его прежней жизни, узнал, что он по старым связям имеет много знакомых и даже родных на Кавказе, а так как эти люди знали его еще дитятей, то и естественно, что они оказывались старше его по служебному положению. Вообще говоря, начальство нашего края хорошо ведет себя с молодежью, попадающей на Кавказ за какую-нибудь историю, и даже снисходительно обращается с виновными более важными. Лермонтова берегли по возможности и давали ему все случаи отличиться, ему стоило попроситься куда угодно, и его желание исполнялось, — но ни несправедливости, ни обиды другим через это не делалось. В одной из экспедиций, куда пошли мы с ним вместе, случай сблизил нас окончательно: обоих нас татары чуть не изрубили, и только неожиданная выручка спасла нас. В походе Лермонтов был совсем другим человеком против того, чем казался в крепости или на водах, при скуке и безделье».
Итак, по необходимости — все, что могут биографы сказать о жизни поэта Лермонтова, и все, что можем сказать мы сами, имевшие случай сходиться с небольшим числом лиц, его хорошо знавших, до сих пор ограничивается одними общими соображениями. Как ни хотелось бы и нам поделиться с публикою запасом сведений о службе Лермонтова на Кавказе, — историею его кончины, рассказанной нам на самом ее театре с большими подробностями, — мы хорошо знаем, что для таких подробностей и сведений не пришло время. Примиримся же с необходимостью и расскажем, по крайней мере, тот бедный запас фактов, который теперь может быть рассказан.
Изо всей жизни Лермонтова, взятой с внешней точки зрения, только начало и конец заключают в себе нечто благоприятное поэтическому развитию его таланта. Дитятей он живал в деревне с старым домом и запущенным садом, смерть нашла его между величавых гор Кавказа, посреди обильной, уму и сердцу говорящей деятельности. Лучше всех анекдотов о детстве Лермонтова, живее всех рассказов о его ученических годах является его бессмертная элегия, задуманная на бале, дописанная в невольном уединении и подписанная тысяча восемьсот сороковым годом. Элегия эта — «Первое января», — по справедливости считающаяся жемчужиной в поэтическом венце Лермонтова. Тут история его детских дум и радостей, тут сведены в одном фокусе все лучи, кидавшие свет ранней поэзии на целое детство истинного поэта.
…памятью к недавней старине
Лечу я вольной, вольной птицей;
И вижу я себя ребенком;
и кругом Родные все места:
высокий барский дом
И сад с разрушенной теплицей;
Зеленой сетью трав подернут спящий пруд
А за прудом село дымится — и встают
Вдали туманы над полями.
В аллею темную вхожу я; сквозь кусты
Глядит вечерний луч, и желтые листы
Шумят под робкими шагами.
И странная тоска теснит уж грудь мою:
Я думаю об ней, я плачу и люблю,
Люблю мечты моей созданье
С глазами, полными лазурного огня,
С улыбкой розовой, как молодого дня
За рощей первое сиянье.
Так царства дивного всесильный господин —
Я долгие часы просиживал один,
И память их жива поныне
Под бурей тягостных сомнений и страстей,
Как свежий островок безвредно средь морей
Цветет на влажной их пустыне.
Мы не можем не заметить от себя при этом случае, что все рассказы о детстве Лермонтова, в разное время слышанные нами и иногда от людей вовсе не поэтических по натуре, — словно почерпнуты из этого стихотворения. Во всех ребенок Лермонтов изображается нам сосредоточенным и мечтательным (мы видим, что у него даже была воображаемая подруга с голубыми глазами и розовой улыбкой!), умеющим находить наслаждение в одиночестве и недовольным, когда что-нибудь отрывало его от уединенных прогулок. Как все дети с подобным развитием, Лермонтов долго был нескладным мальчиком и даже в молодости, выезжая в свет, имея на всем Кавказе славу льва-писателя, не мог отделаться от застенчивости, которую только прикрывал то холодностью, то насмешливой сумрачностью приемов. К наукам, особенно к наукам точным, мальчик Лермонтов расположения не имел, да и вообще не подавал блестящих надежд в будущем, отчасти потому, что учился понемногу, как все русские мальчики, отчасти и по развитию поэтического элемента в ущерб прочим. Читал он, конечно, много, хотя по большей части лишь произведения изящной литературы, — поэзия Пушкина и знакомство с иностранными языками ограждали его от слишком неразборчивого чтения. О том, когда и как начал писать Лермонтов, многого говорить не сможем, потому что в произведениях его детства нет особенных залогов будущего совершенства, и в этом роде они далеко ниже лицейских стихотворений Пушкина.
С поступлением мальчика или, скорее, молодого человека в учебное заведение (в старую Школу гвардейских подпрапорщиков и юнкеров принимались воспитанники не моложе шестнадцати лет) внешняя обстановка жизни Лермонтова становится не только не поэтическою, но даже антипоэтическою. Дошедшие до нас школьные произведения поэта, острые и легко написанные, хотя по содержанию своему неудобные к печати, оставляют в нас чувство весьма грустное. Всякая молодость имеет свой разгул, и от семнадцатилетних гусаров никто не может требовать катоновских доблестей, но самый снисходительный наблюдатель сознается, что разгул молодежи лермонтовского времени был разгулом нехорошим. Даже старый Бурцов, забияка и ера, не одобрил бы своих мальчиков-потомков, не одобрил бы и среды, в которую они были поставлены. Гусар Бурцов никак не понял бы этих полузатворнических, полуудалых нравов, этих ребяческих кутежей, основанных не столько на потребности веселья, сколько на моде и подражании взрослым. Нам кажется, что если бы семнадцатилетнего Бурцова посадили в закрытое заведение, он или удрал бы из него для того, чтоб пойти солдатом в настоящие гусары, или выдержал бы искус, скрепя сердце, не роняя достоинства молодости, не увлекаясь полупроказами и полуудальством воспитанника. В юношеских стихах, относящихся ко времени затворничества Лермонтова, мы не встречаем и тени протеста в бурцовском отношении. Он доволен своим «пестрым эскадроном»*, восхищается своими удалыми сверстниками, а в товарищах, едва вышедших из ребяческого возраста, выхваляет то, что едва спускалось герою Денису, прославившему себя в бою и честно послужившему родине. Понятно, что при таком направлении жизни речи не могло быть о науке, о дельном чтении, даже об основательном изучении военного ремесла, к которому Лермонтов готовился. К счастию, срок юнкерского воспитания был не долог, и Лермонтов не замедлил проститься с бытом не то офицерским, не то кадетским, и, во всяком случае, — для него ничего не давшим.
Жизнь молодого поэта в столице как военного и светского человека тоже не во многом была радостна. Лермонтов принадлежал к тому кругу петербургского общества, который составляет какой-то промежуточный слой между кругом высшим и кругом средним, и потому и не имеет прочных корней в обоих. По роду службы и родству он имел доступ всюду, но ни состояние, ни привычки детских лет не позволяли ему вполне стать человеком большого света. В тридцатых годах, когда разделение петербургских кругов было несравненно резче, чем теперь, или когда, по крайней мере, нетерпимость между ними проявлялась сильнее, такое положение имело свои большие невыгоды. Но в смягчение им оно давало поэту, по крайней мере, досуг, мешало ему слишком часто вращаться в толпе и тем поперечить своим врожденным наклонностям. Сверх того, служба часто требовала присутствия Лермонтова в окрестностях Петербурга, где поневоле все располагало его к трудам, чтению, пересмотру его заброшенных было тетрадок. Нужно ли говорить о том, что скоро к другим побуждениям высказаться присовокупилась страсть, самая горячая и самая способная возвысить душу славолюбивого юноши? Как бы то ни было, но период первой службы Лермонтова, довольно бесцветный по событиям, принес ему с собою охоту к труду. Уже силы были испробованы в печати, наступал довольно заметный перелом в направлении новых стихотворений, влияние Пушкина как образца сменило собою рабское увлечение Байроном, — не повредив, однако же, страсти Лермонтова к байроновской поэзии, захватившей собой всю душу талантливого юноши почти что с детского возраста.