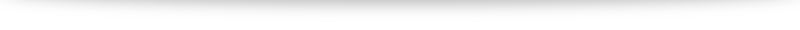«Евгений Онегин», пожалуй, самое трудное для понимания произведение русской литературы. Про него не скажешь словами Твардовского: «Вот стихи, а все понятно, все на русском языке». Язык этого романа (в широком смысле, не только лингвистическом) очень труден для современного читателя. Не понимали этот язык и современники поэта. Однако они верно уловили, что художественный нерв «Евгения Онегина», средоточие творческих задач, поставленных Пушкиным перед собою, связаны с формой повествования или формой авторского присутствия в тексте.
Поначалу, после выхода отдельного издания первой главы, современники решили, что Пушкин подражает байроновскому «Дон Жуану». Действительно, повествователь «Евгения Онегина» перескакивает с предмета на предмет, говорит много необязательного («светская болтовня»), и все это обильно приправлено шутками и иронией, так что понять мысль автора невозможно, да и облик автора получается каким-то несерьезным. В конце 1-й главы Пушкин пишет: «Перечитал все это строго: /Противоречий очень много, /Но их исправить не хочу». Признание принципиальное, ибо здесь сам автор обозначил ведущий принцип построения текста своего романа в стихах. Этот принцип — противоречие. Например, 5-я строфа 1-й главы весьма критически оценивает уровень образованности Онегина, но затем идет перечисление «всего, что знал еще Евгений», и в 8-й строфе делается вывод, что знал он не так уж и мало. Но главное противоречие всего романа и особенно 1-й, ключевой главы — соотношение личности Онегина и личности этого самого Я, от лица которого ведется все повествование. Строфы XV — 1 позволяют заключить, что Онегин и Я, кек говорит народ, два сапога пара, близкие по духу, романтически настроенные друзья. Но строфа V решительно объявляет, что «Всегда я рад заметить разность /Между Онегиным и мной… Как будто нам уж не возможно писать поэмы о другом, /Как только о себе самом».
Откуда берутся эти противоречия и почему автор их «терпит»? Дело в том, что на протяжении текста романа значение местоимений 1-го лица (я, мне, мой и т. п.) все время меняется. В одних случаях они обозначают автора-поэта, пишущего роман об Онегине и др. персонажах. (Вспомните все многочисленные рассуждения о литературе, ее истории, теории и практике сочинительства.) В других случаях Я обозначает реального человека, который параллельно писанию романа об Онегине живет своей, «биографической» жизнью Пушкина, которая теперь нам хорошо известна, да и многим первым читателям была знакома. Таковы, например, три предпоследние строфы 1-й главы. И наконец, в ряде эпизодов первой главы Я обозначает некоего вымышленного персонажа, безымянного знакомого Онегина по петербургскому свету.
В результате получился очень сложный текст, совмещающий в себе все три мира, причем переходы из одного мира в другой происходят мгновенно, в пределах двух соседних строчек, без всякого предуведомления со стороны «автора». Вот 2-я строфа — первая «авторская» (в 1-м — внутренний монолог Онегина). «Друзья Людмилы и Руслана! С героем моего романа…» — здесь Я-поэт представляет героя своего нового творения. «Онегин, добрый мой приятель, /Родился на брегах…» — перед нами Я — вымышленный безымянный персонаж, человек онегинского круга (вряд ли Пушкин стал бы смешивать свою реальность поэта и человека с вымышленной, иллюзорной «реальностью» романных персонажей). «Или блистали, мой читатель…» — опять Я-поэт, имеющий читателя. «Там некогда гулял и я: /Но вреден север для меня» — с пушкинским примечанием, глухо намекающим, что реальный «биографический» человек сейчас находится в южной ссылке.
В результате такого построения романный текст все время меняется, объекты описания то и дело оборачиваются разными сторонами, описываются с разных точек зрения. Текст «Евгения Онегина» заключает в себе целых три художественных мира, лежащих рядом, часто переходящих один в другой самым незаметным образом и тем ее менее нигде не смешивающихся, не путающихся друг с другом.