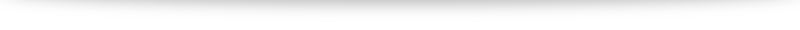В. Г. Белинский считал, что любовное чувство Пушкина — «это не просто чувство человека, но чувство человека-художника, человека-артиста. Есть всегда что-то особенно благородное, кроткое, нежное, благоуханное и грациозное во всяком чувстве Пушкина. В этом отношении, читая его творения, можно превосходным образом воспитать в себе человека».
Среди шедевров любовной лирики Пушкина особенно выделяются три стихотворения: «Я помню чудное мгновенье…» (1825), «На холмах Грузии лежит ночная мгла…» (1829) и «Я вас любил…» (1829).
Первое из них имеет конкретный адресат: оно посвящено Анне Петровне Керн и печатается всегда с вынесенным в заглавие криптонимом «К…». В основу его положены реальные факты биографии Пушкина. Еще в 1819 году на званом вечере в доме Оленина в Петербурге Пушкин встретился с молодой красавицей А. П. Керн. На юного поэта эта встреча произвела глубокое впечатление. Затем начались годы ссылки — сперва на юг, потом в Михайловское. Пушкин, конечно, забыл об этой случайной, эпизодической встрече. Летом 1825 года А. П. Керн приехала в гости к своей тетушке П. А. Осиповой, усадьбу которой в Тригорском Пушкин регулярно посещал. Встретив здесь А. П. Керн, поэт вспомнил о старом, мимолетном знакомстве. А когда 19 июля 1825 года Анна Петровна уезжала из Тригорского, Пушкин приехал и вручил ей на прощание эти стихи. А. П. Керн обратила внимание на некоторое замешательство поэта в момент их вручения: «Когда я собиралась спрятать в шкатулку поэтический подарок, он долго на меня смотрел, потом судорожно выхватил и не хотел возвращать; насилу выпросила я их опять; что у него промелькнуло тогда в голове, не знаю».
Замешательство поэта не было случайным. Вероятно, Пушкин не хотел, чтобы эти стихи воспринимались биографически-приземленно, как портрет Анны Петровны Керн и как описание истории их отношений. Житейские факты, на которые мы указали, явились для Пушкина лишь первотолчком к созданию стихотворения о святыне любви и ее роли в судьбе человека. Ведь обращены они к «гению чистой красоты» — образу высокому, небесному, взятому Пушкиным из стихотворения Жуковского «Лалла Рук». Учитель Пушкина, как мы знаем, говорил в нем о божественном происхождении красоты, которая, как благодать, посещает душу человека только в чистые мгновения его бытия. «Пушкин,- отмечает Н. Н. Скатов,- усвоил формулу Жуковского и уже в стихах изобразил неизобразимое: явленное чудо, пролетевшее видение»:
Я помню чудное мгновенье: Передо мной явилась ты, Как мимолетное виденье, Как гений чистой красоты…
И одновременно, следуя за Жуковским, Пушкин говорит в этом стихотворении о том, что почувствовать неземную, божественную красоту женского существа можно только пробудившеюся душой:
Душе настало пробужденье:
И вот опять явилась ты…
Вся биографическая подоплека в этих стихах оказывается перевернутой и поставленной в зависимость не от житейских фактов — приехала Керн в Тригорское и разбудила уснувшее чувство Пушкина,- а от душевного состояния поэта, от способности его в минуты приливов поэтического вдохновения ощущать «небесные черты» земной красоты.
Всмотримся в композицию этого стихотворения: оно делится на три равные части по две строфы в каждой. Они взаимосвязаны друг с другом и в то же время самостоятельны по смыслу.
Первая часть напоминает музыкальный аккорд — замирающий и печальный. Это воспоминание о былом, чудном мгновении встречи с одухотворенной и чистой женской красотой. Отзвуки этой встречи долго хранит душа, вопреки приливам грусти, вопреки «тревогам шумной суеты». Память о любимой, о ее нежном голосе, о милых чертах ее лица защищает от разрушительных влияний жизни, подобно ангелу-хранителю, оберегает чистоту и душевную гармонию любящего человека.
Но вот наступает мгновение, когда жизненные бури и тревоги убивают это спасительное чувство. И тогда случается томительное душевное помрачение. Гармонический аккорд отзвучал, память о любимой исчезла, душа поэта «вкушает хладный сон». Вторая часть, самая драматическая, продолжает наметившееся в первой затухание возвышенных чувств вплоть до наступления пугающей, немой тишины:
Шли годы.
Бурь порыв мятежный
Рассеял прежние мечты,
И я забыл твой голос нежный,
Твои небесные черты.
В глуши, во мраке заточенья
Тянулись тихо дни мои
Без божества, без вдохновенья,
Без слез, без жизни, без любви.
Реальное биографическое время здесь присутствует: порыв мятежный южной ссылки, михайловское тихое заточение. Но заметим, что и здесь оно поставлено в прямую зависимость от душевного состояния поэта, теряющего связь с «чудным мгновеньем», с «гением чистой красоты». Обратим внимание на строгую симметричность в движении чувства и в первой, и во второй части. И там и тут — от кульминации — к спаду: в первой — чудо встречи и постепенно гаснущая память о нем, во второй — взрыв мятежных бурь, разрушивших душевную гармонию,- и постепенное отмирание живых сердечных движений.
Третья часть — как пробуждение от мучительного сна — построена иначе: движение в ней идет не от кульминации к спаду, а от пробуждения к нарастанию душевного подъема, стремительно восстанавливающего все утраченное и достигающего в финале ликующего, мажорного торжества:
Душе настало пробужденье:
И вот опять явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.
И сердце бьется в упоенье,
И для него воскресли вновь
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и любовь.
Композиция стихотворения, как мы убедились, очень музыкальна. Н. Н. Скатов связывает ее «с совершенно особым типом музыкального мышления XIX века»: «оно заключает в себе не только романсность, но — симфонизм; это сложная трехчастная соната, подлинно бетховенское произведение: момент развития могучего духа с борьбой двух начал и с разрешающим, торжествующим выходом в светлый победительный финал».
Грустное и нежное воспоминание, горестное сознание утраты и, наконец, торжественный взлет радости и восторга прекрасно воспроизвел М. И. Глинка в музыке своего романса, написанного уже после смерти Пушкина и посвященного дочери А. П. Керн. Но при этом, конечно, осталась за пределами музыкального выражения глубочайшая философичность пушкинского произведения, драматическая мистерия человеческого духа, достигающего в борениях с темными силами жизни светлого торжества Красоты, Правды и Добра. Эта грань содержания для своего музыкального выражения потребовала бы усилий целого симфонического оркестра.
Стихотворение «На холмах Грузии…» было написано Пушкиным в 1829 году, во время его путешествия в Арзрум. Поэт предпринял его в довольно трудную минуту своей жизни: возобновившиеся преследования властей, безрезультатное сватовство к Н. Н. Гончаровой, глубоко огорчившее влюбленного поэта. В. Ф. Вяземская, посылая это стихотворение в Сибирь М. Н. Волконской (Раевской), писала в 1830 году, что оно посвящено Пушкиным его невесте. В первой редакции, от которой поэт отказался, был глухой намек на постигшую его неудачу:
Я твой по-прежнему, тебя люблю я вновь
И без надежд и без желаний.
Как пламень жертвенный, чиста моя любовь
И нежность девственных мечтаний.
Во второй редакции стихотворения поэт убрал эти намеки. Ясно только, что речь идет о любви безответной, а может быть, и безнадежной. Но тем чище и бескорыстнее она у Пушкина, потому что такая любовь ничего не ждет и ничего не требует от любимой:
На холмах Грузии лежит ночная мгла;
Шумит Арагва предо мною.
Мне грустно и легко; печаль моя светла;
Печаль моя полна тобою,
Тобой, одной тобой… Унынья моего
Ничто не мучит, не тревожит,
И сердце вновь горит и любит — оттого,
Что не любить оно не может.
Стихи пронизаны просветленной и одухотворенной печалью. Она передается даже природе. Жаркую, солнечную Грузию окутала ночная мгла. Обилие полугласных, сонорных звуков «л» и
«м» при полногласном «а» пронизывает всю первую строку, затухает во второй и возобновляется с нарастанием в третьей и четвертой. Ласкающее «л» буквально обволакивает всю первую строфу, определяя ее звуковую доминанту.
Вторая строфа открывается настойчивым и тревожным повторением-призывом «Тобой, одной тобой…», в котором особенно впечатляет это трижды звучащее «ой» как стон, как призыв, как последняя надежда. А далее, по контрасту, появляется тяжелое слово «уныние», которое смягчается во второй строке указанием на то, что это уныние просветленное, так как его уже «ничто не мучит, не тревожит». Боль безответного чувства еще существует, но она не властна, она не способна убить высокую, духовную любовь. Финальные две строки — утверждение и торжество этой любви вопреки всем препятствиям и невзгодам.
В. Г. Белинский писал, что Пушкин «ничего не отрицает, ничего не проклинает, на все смотрит с любовью и благословением. Самая грусть его, несмотря на ее глубину, как-то необыкновенно светла и прозрачна; она умиряет муки души и целит раны сердца. Общий колорит поэзии Пушкина и в особенности лирической — внутренняя красота человека и лелеющая душу гуманность».
Поражает какая-то целомудренная стыдливость и простота поэтической речи Пушкина, чуждающейся метафор, ярких эпитетов и прочих специальных украшений. У него поют сами слова, сочетания слов, сочетания не придуманные, не навязанные языку поэтом, а заключенные в самой его природе. И эта мелодия слов и словосочетаний порождает дополнительные поэтические смыслы естественно, непреднамеренно и непроизвольно.
Эта особенность пушкинской лирики ярче всего, пожалуй, проявляется в стихотворении 1829 года «Я вас любил…»: Я вас любил: любовь еще, быть может, В душе моей угасла не совсем; Но пусть она вас больше не тревожит; Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, То робостью, то ревностью томим; Я вас любил так искренно, так нежно, Как дай вам Бог любимой быть другим.
По высоте и чистоте нравственного чувства этим стихам трудно подобрать аналогию как в русской, так и во всей мировой литературе. Пушкин поднимается в них над эгоизмом любви, соприродном этому чувству, которое всегда сопровождается ревнивым отношением к любимому человеку. Пушкин поднимается над ревностью легко и свободно, без всякого самоотречения и самоподавления, демонстрируя здесь редчайшую щедрость своей
поэтической души.