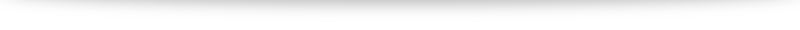Он плакал на ступенях Конюшенной церкви, не скрывая своего отчаяния! Плакал человек, который казалось, привык к беспощадным ударам судьбы. Она, словно смеясь над ним, отбирала у него одного за другим, друзей, детей, силы, веру, желание жить, какие бы то ни было надежды! А он все стоял, как несгибаемый дуб. Иронизировал, подтрунивал над собой, его язвительные остроты друзья записывали в альбомы, запоминали наизусть… Говаривали, что в его чувстве юмора есть что-то необычное, немного холодное, как бы ускользающее от понимания.
Не зря же в его жилах текла по материнской линии англо-ирландская кровь. Никто не видел его слез. Разве что скептицизм взглядов и язвительность шуток становилась как бы сильнее от глубины огорчения, которое он испытывал. Слез почти не было и у могилы дочери Полины, там, в цветущем и равнодушном Риме. Княгиня плакала навзрыд, почти теряя от слез сознание, но он словно окаменел тогда… Вернулись в Петербург (май 1835), — запирался в кабинете, заполнял заметками записные книжки, перелистывал страницы книг и журналов, глядя на них пустыми потухшими глазами. Отчаяние давило, а слезам дать воли не мог. Вечерами приезжали немногие гости, вели негромкие разговоры с княгиней Верой, пили чай… Частенько заглядывал и Пушкин. Его приезду он бывал особенно рад, уводил в кабинет, где сидели, вспоминая, или молчали, думая каждый о своем… Встречались на светских раутах — Пушкин казался задумчивым и желчным одновременно. По гостиным в то время уже вовсю ползли слухи о предстоящем скандале, недопустимом поведении Д’Антеса… Но он был так поглощен своим собственным горем и печальными размышлениями, что не придал должного значения этой, как ему показалось, затянувшейся светской сплетне. Как он казнил себя за то, что вернулся домой слишком поздно в вечер перед этой злосчастной дуэлью! Его не дождались и время было упущено. На следующий день свершилось непоправимое… И теперь он горестно рыдал на ступенях церкви, касаясь коленями холодных плит. Февральские снежинки падали на воротник его шубы, но он не замечал ничего. Гроб с телом Пушкина стоял в церковном подвале. Пушкина не было. А он был жив. И это мучительно удивляло его. Кажется, в тот миг он осознал горечь всех своих потерь так остро, как никогда. Князь Петр Андреевич Вяземский справедливо мог гордиться своим негласным титулом «рюрикович». Родословная его отца, князя Андрея Ивановича Вяземского, уходила корнями довольно далеко. Впрочем, князь Андрей Иванович, кажется, обращал внимание на древность своего имени только изредка. Человек свободомыслящий, высокообразованный, лично знакомый с французкими писателями-энциклопедистами, он много времени проводил в заграничных путешествиях. Во время одного из них и познакомился с будущей матерью князя Петра Андреевича — англичанкой, замужней дамой, миссис О’Рейли. Влюбившись страстно, Андрей Иванович увез ее от мужа в Россию, добился для нее развода и в 1786 году обвенчался с нею, превратив в княгиню Екатерину Ивановну Вяземскую. Княгиня Екатерина Ивановна умерла рано, когда Петр Андреевич был еще ребенком, а родственников с ее стороны он никогда не знал, хотя и пытался их отыскать во время заграничных путешествий. В 1795 году отец князя Петра купил под Москвою имение Остафьево, где построил большой, в сорок комнат, особняк в классическом стиле, ставший на много лет излюбленным пристанищем его сына — поэта. В Остафьево собиралась духовная элита того времени — Жуковский, Дмитриев, Батюшков. Жил долгие годы (12 лет!) в Остафьеве и Карамзин — зять князя Андрея Ивановича, женатый на старшей его дочери, Екатерине Андреевне, сводной сестре Петра Андреевича. Николай Михайлович Карамзин работал в имении над своим главным трудом «Историей Государства Российского.» Заботам Карамзина и поручил князь Вяземский-старший, умерший рано, в 1807 своего единственного сына. С этого времени, как вспоминал позже сам Вяземский, «русское литературное влияние соединилось в Остафьеве с привычным французским и даже стало преодолевать его.» (Вяземский. «Записные книжки») Воздействие Карамзина на молодого Вяземского оказалось решающим: он был воспитан в духе патриотизма и привык к мысли о том, что каждый человек должен в меру сил своих заботиться о благе и процветании общества. Если Карамзин-историк образовал публициста и критика Вяземского, научив его спорить и вникать в глубины исторических событий, то Карамзин-писатель, автор «Писем русского путешественника», «Бедной Лизы», замечательных элегий и романсов, вырастил Вяземского — поэта. Преклонение перед Карамзиным было своего рода исключением для остроумного князя Петра. Вообще-то он не признавал никаких авторитетов — не склонен был к тому его скептический, язвительный ум. Только еще один раз в жизни сделает для себя исключение Вяземский — признать духовное первенство Пушкина и преклониться уже пред ним. Петр Андреевич рассказывал о своих юных годах: «С водворением Карамзина в наше семейство письменные наклонности мои долго не пользовались поощрением его. Я был между двух огней: отец хотел видеть во мне математика, Карамзин боялся увидеть во мне плохого стихотворца. Он часто пугал меня этой участью. Берегись, говаривал он: нет ничего жальче и смешнее худого писачки и рифмоплета. Первые опыты мои таил я от него, как и другие проказы грешной юности моей. Уже позднее, а именно в 1816 году, примирился он с метроманией моей (метромания — старинное название стихотворства. Везде сохранены стиль и орфография подлинных документов — автор) Александр Тургенев давал в Петербурге вечер в честь его… Хозяин вызвал меня прочесть кое-что из моих стихотворений. Выслушав их, Карамзин сказал мне: «Теперь уж не буду отклонять Вас от стихотворства. Пишите с Богом!» И — пошла писать, то есть пиши пропало! — скажет один из моих строгих критиков. «Острота мысли и острота ее выражения, каламбур, едкая шутка, игра словом — наиболее характерные черты Вяземского — поэта и публициста сказывались в каждой его строке, даже в самой ранней: стихотворении, посвященном адмиралу Нельсону. Оно написано им в 13 лет! Князь Петр продолжил начатое дома серьезное образование в Иезуитском пансионе Чижа в Петербурге, (в этот же пансион хотели первоначально поместить и Пушкина), затем в Благородном пансионе при Педагогическом институте, но возвратился домой, где по настоянию Карамзина, с ним занимались профессора Московского Университета. Образование получилось отменным, не было только привычки к систематической работе, кабинетной аккуратности. Часто Вяземский терял свои рукописи и обращался к Пушкину с просьбой восстановить по памяти его стихи. Вяземский рано стал взрослым человеком. Не достигнув и двадцати лет он женился на княжне Вере Гагариной — девушке чрезвычайно образованной, милой и необыкновенно, до странности, доброй. Это было взаимное пылкое увлечение двух схожих натур: Вера Гагарина была остроумна, находчива в разговоре, снисходительна к слабостям других и читала книги, подчас весьма серьезные, не для молодых барышень. Князь Петр Андреевич прожил «с княгиней доброй и прелестной» (выражение Пушкина) без малого 67 лет, похоронил семерых детей — последнюю, Марию, совсем уж взрослой, 30 с небольшим. Княгиня всегда была рядом: когда — незаметною тенью, когда — необходимою опорой. Прощала ему все мелкие слабости, неверные шаги, глупости, увлечение другими дамами (среди которых была и блистательная графиня Фикельмон)… Она только лукаво щурилась, грозила мужу веером, качала головой и удивлялась про себя: что они находят в этом непривлекательном лице с крупными чертами? Впрочем, тут же находила ответ: в ее муже дам привлекала непринужденность и острота мысли, та увлеченность, с которой он мог говорить на любую тему и его необыкновенная уверенность в себе, уверенность красавца-мужчины, который может покорить самое неприступное женское сердце. Об отменно светских манерах князя ходили легенды. Графиня Фикельмон во впечатлении о первой встрече с Вяземским сразу отметила: «чрезвычайно любезен». Это было главное, что бросилось в глаза чрезвычайно наблюдательной посольше, воспринимающей этикет как естественную часть жизни, привыкшей к нему. Но в жизни Вяземского были не только паркеты бальных зал. Было и Бородинское сражение 1812. Он записался в Московское ополчение, пулям не кланялся — под ним было убито две лошади. За участие в боях и личную храбрость князь высочайше награжден орденом Станислава 4 — ой степени. После пожара Москвы уволен из армии и в чине коллежского асессора направлен служить в Варшаву. Его свободолюбивые идеи тогда окончательно оформились. Он сблизился в Варшаве со многими из тех, кто потом принимал участие в декабристском мятеже, польском народно-освободительном движении 1830-х. Князь составлял записку об освобождении крестьян, проект которой должен был быть подан на рассмотрение императору Александру Первому. Но декабрьская вьюга сменила императоров на престоле, либеральным мыслям пришел конец и «декабриста без декабря» — так называли Вяземского многие советские исследователи «дворянской революции» — хоть и не засадили в Шлиссельбург или Петропавловскую крепость, однако имя взяли на заметку и, насторожившись, уволили от службы «без прошения». Вяземский с горечью писал В. А. Жуковскому: «В наши дни союз с царями разорван, они сами потоптали его. Я не вызываю бунтовать против них, но не знаться с ними… Благородное негодование — вот современное вдохновенье!» Этим же благородным негодованием были полны и поэтические строки Вяземского, которые не могли пройти сквозь цензуру, но расходились в рукописях и становились известны все более широкому кругу молодежи и деятелям декабристского мятежа. За князем была установлена негласная слежка. Агент Третьего отделения доносил генералу Бенкедорфу: «Образ мыслей Вяземского может быть по достоинству оценен по его пьесе (т. е. — стихам) «Негодование», ставшей катехизисом заговорщиков.» И далее приводились строки: Свобода! О, младая дева! Посланница благих богов! Ты победишь упорство гнева Твоих неистовых врагов. Вяземский получил письмо от Рылеева (через редакцию журнала «Полярная звезда», в котором успешно сотрудничал). В письме говорилось: «Будьте здоровы, благополучны и грозны по-прежнему для врагов вкуса, языка и здравого смысла. Вам не должно забывать, что однажды выступив на такое прекрасное поприще, какое Вы себе избрали, дремать не должно!» Так что не без основания Николай Первый сказал: «Князь Вяземский избежал участи арестанта только потому, что оказался умнее и осторожнее других». Разгром движения декабристов был для князя прежде всего огромной личной драмой. Он терял друзей, единомышленников, просто знакомых. Атмосфера в обществе становилась все более тяжелой. …Многие не могут понять логики того шага, который совершил князь, написав императору письмо-исповедь. Но вот строки из его письма Александру Ивановичу Тургеневу от 27 марта 1820 года: «Я за Гишпанию (Испанию) рад, но, с другой стороны, боюсь, чтобы соблазнительный пример Гишпанской армии не ввел бы в грех кого-нибудь из наших. У нас, что ни затей без содействия самой власти — все будет Пугачевщина.» (Письмо цитируется по книге Н. Раевского» Портреты заговорили» Т 1.) Слова пророческие, учитывая дальнейший ход истории России. Но зная к чему приводят революционные бунты, князь понимает и как губительно для России отсутствие в обществе всяческого движения вперед, отсутствие способности мыслить и понимать. Опальное положение Вяземского длилось долгих девять лет! В 1828 году оно осложнилось клеветническим доносом на якобы непристойное поведение. От имени императора московскому генерал-губернатору Д. В. Голицыну было приказано: «внушить князю Вяземскому, что правительство оставляет собственно поведение его дотоле, доколе предосудительность оного не послужит к соблазну других молодых людей и не вовлечет их в пороки. В сем же последнем случае приняты будут необходимые меры строгости к укрощению его безнравственной жизни». Это «высочайшее» оскорбление было тем более обидно, что непосредственным поводом к нему послужил опять-таки донос о том, что князь намерен издавать под чужим именем некую «Утреннюю газету». Он же не имел об этой газете никакого понятия! В ответном письме губернатору Голицыну Вяземский писал: «Если я не добьюсь почетного оправдания, мне остается покинуть родину с риском скомпрометировать этим поступком будущее моих друзей». Вероятно, князь имел ввиду прежде всего декабристов и Пушкина, положение которого в тот момент тоже было довольно сложным. Однако от мысли эмигрировать пришлось отказаться из-за того, что семья росла и денег было не очень много. Дети часто болели, средства уходили на их лечение. Кроме того, убежденный враг реакции, он, как дворянин, был все же монархистом, принадлежал, как тонко выражались тогда, «к оппозиции Его Величества». Князь выбрал свою дорогу, решив, что ради чести древнего имени и будущего детей, он должен примириться с правительством. В декабре 1828 — январе 1829 года Вяземский пишет свою «Исповедь» — обширный документ, в котором с достоинством излагает свои взгляды и идеи, принося извинения императору за резкость с которой он высказывал их. Исповедь князя была в феврале 1829 года отослана Жуковскому в Петербург, а через него передана графу А. Х. Бенкендорфу, затем императору Николаю Первому. Тот потребовал от князя Петра Андреевича личных извинений перед собою и братом своим, Великим Князем Константином, наместником Варшавы. Неизвестно, была ли это аудиенция или конфиденциальное послание — советские литературоведы не слишком занимались исследованием частного вопроса, заклеймив храбрейшего и мужественного человека эпитетом «трусливый монархист-реакционер». (Большая часть архива князя неопубликована и неисследована. «Старые записные книжки» — главный труд последних лет жизни, где много ценных наблюдений из жизни русского общества всех слоев, воспоминаний о встречах с Пушкиным и Жуковским, Тургеневым и другими — знаменитыми и не очень — писателями и поэтами, деятелями культуры и истории, — в полном объеме не издавались никогда! Это — к слову, не более.) Но раскаявшийся «республиканец-монархист» получает уже в феврале 1830 года первое государственное назначение — чиновник по особым поручениям при министре финансов графе Канкрине. Должность — более чем почетная. Через год, 5 августа 1831 года, князь Вяземский становится камергером Двора Его Величества, а 21 октября 1832 князь уже назначен вице-директором департамента внешней торговли. Столь стремительное восхождение по служебной лестнице можно объяснить не только капризами «высочайшей воли,» но и личными заслугами и достоинствами князя Вяземского, воспитанника истинного гражданина Отечества — Карамзина! Позднее Вяземский служил в министерстве народного просвещения тоже на немалой должности — товарищ (заместитель по-нынешнему!) министра просвещения и в плодах тогдашних реформ и расцвета Российской Академии Наук есть и его заслуга… Но не забывал князь и о музах, живых и поэтических. Пушкин беззлобно подшучивал над ним в письмах того времени: «Настоящая служба твоя — при графине Фикельмон. Она удержит тебя в Петербурге…» (дословная фраза из письма1831 года) — намекая на его бурные успехи в светских салонах, на установившиеся теплые личные отношения «с посланницей богов, посланницей австрийской» (выражение самого Вяземского)/ Отношения эти больше были похожи на «влюбленную дружбу» и разговор о них — тема для отдельной статьи. Гостиные и серьезные литературные салоны вновь слышали остроумные каламбуры князя, а порой и глубокие споры на разные темы то с Пушкиным, то с Жуковским, то с Александром Тургеневым. Сохранилось немало свидетельств современников об этих спорах и разговорах. Всех тогда занимал польский вопрос. Вяземский поддерживал позицию правительства и здесь бывали у него разногласия с Пушкиным. Они спорили порой «до упаду, до охриплости» о драматурге Озерове, о поэтах Дмитриеве и Батюшкове. Вероятно, в дальнейшем спорили бы и о даровании Лермонтова, останься Пушкин жив. Сохранилось огромное количество писем Пушкина к князю — семьдесят четыре. Чуть больше было только к жене. Пушкин с признательностью и благодарностью отвечал на все замечания Вяземского, а особенно — на его критические статьи по поводу его ранних поэм: «Цыганы», «Полтава», «Кавказcкий пленник». Он писал Вяземскому: «Пусть утешит тебя Бог за то, что ты меня утешил! Приятно выслушать мнение о себе умного человека!» А Вяземский позднее признавался: «В стихах моих я нередко умствую и умничаю. Между тем…, что если есть и должна быть поэзия звуков и красок, то эта была поэзия его, Пушкина». Он как-то упрекал меня в том, — продолжал Вяземский, — как у меня хватило духа говорить о том, что язык наш рифмами беден! Оскорбление русскому языку он принимал за оскорбление лично ему нанесенное. Он был прав, как высший представитель этого языка.» Вспоминая о Пушкине Вяземский говорил: «Он судил о труде моем с живым сочувствием приятеля и авторитетом писателя и опытного критика, меткого, строгого и светлого. Вообще, хвалил он более, нежели критиковал… День, проведенный с Пушкиным был для меня праздничным днем. Скромный работник, получил я от мастера-хозяина одобрение, то есть лучшую награду за свой труд.» Речь идет о биографии Д. Фонвизина, написанной Вяземским и показанной Пушкину в Остафьеве в летние месяцы 1831 года, «в затишье холеры». (П. Вяземский. «Из автобиографического введения» 1876.) Просматривая огромное количество критических заметок, статей и воспоминаний, посвященных Вяземским Пушкину, не можешь порою отделаться от мысли, что Вяземский сознательно и бессознательно как бы пытается загладить невольную свою вину перед поэтом. Был самым близким другом, а не сумел спасти, помочь, уберечь! Вяземский не защищался от этих обвинений — косвенных и прямых. Он так и пронес тяжесть их до самого конца. Его письмо о последних днях и минутах жизни Пушкина, написанное по просьбе В. А. Жуковского, исполнено горячей любовью к Пушкину. Там есть строки: «Разумеется, с большим благоразумием и меньшим жаром в крови и без страстей Пушкин повел бы это дело иначе. Но тогда могли бы мы видеть в нем, может быть, великого проповедника, великого администратора, великого математика, но на беду, провидение дало нам в нем великого Поэта». Вяземский одним из первых назовет Пушкина тем именем, к которому так привыкло ухо русского человека за два с лишним столетия. О себе же сенатор, камергер Императорского Двора, член Государственного Совета, князь Петр Андреевич Вяземский с горечью напишет: Лампадою ночной погасла жизнь моя, Себя, как мертвого оплакиваю я. На мне болезни и печали Глубоко врезан тяжкий след; Того, которого вы знали, Того уж Вяземского нет… Он назовет это стихотворение весьма красноречиво: «Эпитафия себе заживо»… Было ли это метафорическим преувеличением или горькой истиной — трудно сказать. Но перелистывая страницы книг «сиятельного поэта» (как в шутку говаривал Пушкин), его дневников, писем, мемуаров, мы слышим дыхание того времени и ясно представляем себе того Вяземского, друга Поэта, который не стыдясь рыданий оплакивал его на ступенях Конюшенной церкви в Петербурге, 10 февраля 1837 года… В подготовке статьи использованы материалы двухтомника «Друзья Пушкина» М. Изд-во «Правда» 1986 год. т.1, автор и составитель — В. В. Кунин.