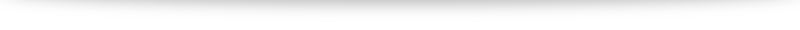Из всех даровитых русских поэтов нашего литературного периода господин Некрасов имеет полное основание жаловаться на отзывы журнальной критики о его произведениях, да вообще о всей сущности его таланта. Нам кажется, что сам г. Некрасов высказал эту мысль или в журнальной заметке или в изустной беседе — последнее вернее, ибо наш поэт не принадлежит к числу людей, способных печатно плакаться на свою долю. Задорным Зоилам своим он не отвечал ни разу, не отвечал даже и неловким своим поклонникам, о которых мы скоро говорить будем. Как бы то ни было, редкий из современных русских литераторов встречал со стороны своих ценителей большую слепоту и большую сухость приговора. Поприще свое г. Некрасов начал в то время, когда поэзия не ценилась слишком высоко, когда стихотворная дидактика одна имела право существования, когда его же стихотворение «Псовая охота» считалось гораздо прекраснейшим, нежели «Когда из мрака заблужденья», вещь, под которой сам Пушкин подписал бы свое имя всеми буквами, не боясь за славу первого русского поэта. При перемене взглядов и направления в критике одному господину Некрасову как поэту не пришлось увидеть полезного результата воззрений, более прежнего симпатичных делу поэзии. Поэт наш в это время стоял во главе журнала известного и заслуживающего свою известность — положение, снова ставившее его в неловкие отношения к журнальным ценителям поэтов. В своем издании г. Некрасов не мог допускать статей о самом себе как поэте — в других журналах антагонизм изданий естественно выражался нападениями на г. Некрасова не только как на журналиста, но и писателя. В нашей литературе еще не вывелись замашки в таком роде. Чтобы уколоть того или другого журнального деятеля, противник его часто нападает не на журнал, им издаваемый, а на его прежние произведения, на его стихи, если он их пишет, — на его ученые статьи, если он написал их, хотя за десять лет до вступления в обязанность журналиста. Такая тактика совершенно бессовестна, скажем это откровенно и прямо, но предшествовавшие примеры и общая рутина ее отчасти извиняют. Не менее того господину Некрасову, со времени его вступления в заведование журналом, пришлось вынести много желчных оценок, много комментариев прямо оскорбительных и, наконец, много отзывов, еще более тяжких для поэта истинного. Его лучшие вещи проходили без привета со стороны критики, его неудачные опыты перепечатывались и всюду выставлялись с насмешкой — даже при более снисходительных оценках ценители грешили непониманием дела, восхищались элементом побочным и временным, без внимания оставляя свободную сторону таланта и творческие его особенности. В умах большинства ценителей, даже расположенных к поэту нашему, г. Некрасов есть человек с озлобленным умом, ловкий стихотворец-памфлетист, желчный мизантроп, которого читать полезно для уразумения человеческих пороков. Лучшая ему похвала та, что его произведения наводят читателя на мысли грустные и целительные. А затем о складе его таланта, о его несомненной силе и оригинальности, о луче поэзии, пробивающемся повсюду (очень часто даже наперекор самому поэту), говорить никто не думает. Посреди такой холодности и близорукости самому поэту не трудно сомневаться в своих силах и в своем призвании. Не видя своей поэзии признанною, господин Некрасов имеет полное право глядеть на себя как на исключительное явление, как на представителя временных идей и поучений, как на поэта одной стороны жизни, не имеющего возможности рассчитывать на долгую и прочную славу. Он может говорить сам с грустию о своих произведениях:
Но не льщусь, чтоб в памяти народной
Уцелело что-нибудь из них,
Нет в тебе поэзии свободной,
Мой суровый, неуклюжий стих!
Нет в тебе творящего искусства…1
Для нас удивительно грустны и многознаменательны эти пять стихов, в которых поэт, с ясновидением поэта истинного, идет наперекор всем дидактическим стремлениям, всем теориям, посреди которых его талант окреп, вырос и сформировался. В глубине души господина Некрасова, невзирая на все убеждения, им в разное время высказанные, живет глубокая, вечная мысль о том, что «временный» и преднамеренно-поучительный элемент поэзии никогда не создаст ничего, достойного остаться в памяти народной. Но пусть наш талантливый современник успокоится и вздохнет свободно. Не из одного временного и дидактического элемента состоит его поэзия. Есть в ней и свободное творчество, и всесторонность создания, есть в ней то, что делает поэта и дает ему жизнь в будущих поколениях. Не из заблуждений дружеских, не из временного ослепления говорим мы это: наши слова взвешены и проверены долгим изучением предмета. Господин Некрасов много принес жертв временному элементу поэзии, но жертвовал ему не из рутины, не из расчета, не из увлечения чуждым авторитетом, а с полной свободой сознания, вследствие своей организации и склада своего таланта. Он не кидал грязью в алтарь чистой поэзии, но всегда подходил к нему с любовью и благоговением, даже преувеличивая свои слабости и считая себя более недостойным жрецом, чем он был им в самом деле. Он не издевался над высшими проявлениями вечного в поэзии и всегда был готов ответить на призыв музы, куда бы она его ни увлекала. Оттого мы видим и постоянно будем видеть в Некрасове истинного поэта, богатого будущностью и сделавшего достаточно для будущих читателей. Даже многие из его преднамеренно-наставительных стихотворений нам нравятся, ибо они созданы без усилий и притянутой мысли, — мы очень хорошо знаем, что срок их славы недолог, но и за временное их влияние остаемся вполне благодарными. Этими стихотворениями он привил несколько дельных мыслей в обществе, ими развивает он массы людей малоразвитых и непривычных к пониманию поэзии. В них он был прям и искренен, ими достигнул он всего, что только можно было достигнуть с таким слабым орудием. Но не в дидактике значение Некрасова как поэта настоящего, поэта прочного. Это значение приобрел он энергией своего таланта, рядом картин, достойных кисти мрачного Рембрандта, сотнею строк, исполненных жизни и крови, запечатленных всегда свежим, всегда славным творчеством. Поэт грустной действительности и унылых сторон жизни, Некрасов перестает быть полным поэтом только там, где он силится прикрасить эту жизнь и эту действительность более или менее временными умствованиями. Там, где он свободно творит и без мудрствования идет за своей музой, он всегда правдив, всегда стоит зваться художником. Но мы еще успеем поговорить о таланте Некрасова, теперь мы пока еще не кончили с его ценителями. Чуть ли не вреднее предубежденных критиков и собратий-журналистов были для поэта нашего многих из его самых горячих поклонников. Мы уже сказали, что по существу своего дарования, исполненного практичности и временных стремлений, господин Некрасов расшевелил сочувствие даже в массе людей малоразвитых относительно понимания поэзии. Таких людей очень много в нашей публике и даже в литературе. Оно и не может быть иначе в словесности молодой, недавно установившейся, и еще не привычной к обсуждению высших эстетических вопросов, и до сих пор еще ни разу не объяснявшей себе во всей точности того, что такое поэт и в чем именно заключается сущность поэзии. У нас многие почтенные люди, не чуждые литературе, любят стихи так же, как оперную музыку, т. е. холодно, лениво, условно. Для таких людей поэзия есть развлечение, отдых, пояснение честных идей, пожалуй, полезный урок и повод к хорошей мысли, но никак не лучезарное светило, озаряющее, согревающее собою всю внутреннюю жизнь просвещенного человека. Такой взгляд не высказывается печатно, но живет в умах людей с большой силою, иначе мы бы не могли объяснить себе самых простых явлений в литературе нашей — как, например, журнальных выходок против искусства чистого и ребяческих толков о том, что «искусство не может существовать без дельной мысли» {Как будто бы когда-нибудь и в какую бы то ни было эпоху величайшего упадка искусство существовало без дельной мысли. Вообразить себе создание искусства без мысли не то же ли, что создать себе пейзаж без воздуха или огонь без тепла? (Примеч. А. В. Дружинина.)}. Одна строка из подобного рода диссертаций2 показывает яснее дня, до какой степени самые основные, необходимые познания о сущности слова искусство незнакомы создателям таких диссертаций. Как бы то ни было — подобные люди читают русских поэтов и даже судят о русских поэтах. Еще ниже их надо поставить ценителей, совершенно не чующих поэзии и лишенных способности понимать ее — так, как многие очень развитые индивидуумы лишены способности слушать музыку с удовольствием. В другое время они не читали бы стихов и не тяготились бы недостатком своего организма, но в наше время, при развивающемся просвещении и любви к литературе, такое отчуждение неудобно. И вот, оба нами описанных разряда читателей принимаются за чтение лучших русских поэтов — Майкова, Фета, Тютчева, Огарева и так далее. Удовольствия испытывают очень мало, ибо, с одной стороны, не богаты чутьем на поэзию, с другой стороны, слишком самонадеянны, чтобы начать учиться сызнова. Неясно сознавая то, что должно требовать от поэта, даже удовольствие, им доставленное, в них высказывается неясно и слабо. От поэтов, нами названных, они переходят к Некрасову, их достойному сверстнику и товарищу. И вдруг горизонт читателей проясняется, а сердца их трепещут от радости, как у ребенка, со скукой слушавшего увертюру оперы, но весело воспрянувшего, чуть поднялась занавесь и на сцене стали ходить люди, на двух ногах, с человеческими лицами. У господина Некрасова половина страниц совершенно понятна людям, даже равно ничего не смыслящим при чтении поэтов. Тут современный интерес, тут занимательный рассказ, тут печальная история, рассказанная так просто, как будто в прозе, там колкая насмешка, там железный стих, способный пробрать всякого человека, век свой засидевшегося на прозе. Здесь можно кивнуть на Петра, в другом месте Петр посмеется обнаруженным грехам Климыча. Для людей с прозаическим складом ума, но все-таки порывающихся в область поэзии, половина трудов Некрасова есть перл, чудо красоты, великое открытие, истинная находка. Над этими трудами они в первый раз могли сказать сами себе безо всякой неискренности: «Вот где поэзия, вот где мы все видим и понимаем!» Такой результат во многом полезен, ибо он не только навел целый клан незорких людей на дельные мысли, но вдобавок еще и подготовил их к некоторому, хотя крайне узкому, пониманию поэта. Для читателя он весьма утешителен, повторяем мы, но утешителен ли он для самого труженика, для высших проявлений его музы? Понимая в Некрасове часть временную и близкую к прозе, понимают ли его жаркие поклонники вечную и высокую сторону музы Некрасова? Следя за современным движением действующих лиц в его опере, каждый критик слушает ли самую музыку как следует? Останавливается ли прозаический читатель над точными и пленительными сторонами дарования Некрасова? Короче сказать, многие ли из читателей поэта нашего приветствуют в нем певца и зрячего человека, а не памфлетиста и сатирика? Вот вопрос, который нас всегда наводит на грустные мысли, — а г. Некрасову, как поэту истинному, поэту яркому и чтящему поэзию, он должен казаться еще грустнее.
По собственному много лет продолжающемуся наблюдению мы можем сказать утвердительно, что количество прозаических людей, обвороженных стихами Некрасова, чрезвычайно велико, а отзывы их, высказываемые резко и самонадеянно, для нас более неприятны, чем преднамеренная хула журнальных антагонистов поэта нашего. Мы говорили уже, что стихотворение «Псовая охота», очень ловкое и очень прозаическое, повергает массы читателей в восхищение, тогда как превосходнейшее, истинно высокое создание
Когда из мрака заблужденья
Горячим словом убежденья
Я душу падшую извлек
прошло незаметно для самих дилетантов и друзей автора. По этому случаю нам весело рассказать о том, каким образом, после долгих лет, сказанное стихотворение было наконец оценено лучшими нашими литераторами, в присутствии самого автора. Прошлой осенью, если не ошибаемся, вышел в свет небольшой сборник3 лучших пьес из русских поэтов, как старых, так и поныне процветающих, в сборнике, около конца, красовалось стихотворение «Когда из мрака заблужденья», без подписи. На квартире г. Некрасова сошлись несколько литераторов — один из них с наслаждением прочитал стихи, о которых говорится. Другой подивился тому, как могла эта прелестная вещь до сих пор оставаться в неизвестности, третий осведомился об имени автора, четвертый сказал: «Таких стихов не может написать никто, кроме Пушкина». Тогда только сам автор, налицо находившийся в комнате, поблагодарил друзей своих за похвалу и внимание. Конечно, похвала, до такой степени непредвиденная и неподготовленная, имеет свою сладость, но мы не ручаемся в том, что г. Некрасов, даже под влиянием понятного удовлетворения, в глубине души не упрекнул своих товарищей за всю случайность их позднего одобрения. Если люди, одаренные несомненным поэтическим чувством, до такой степени бывали иногда несправедливы к музе Некрасова, то во сколько крат страннее были отношения других его читателей к этой музе! За примерами ходить недолго. Давно ли «Княгиня», вещица, которой сам автор не придает значения, ходила по рукам у петербургских жителей, между тем как вещь, где есть два стиха
Той бездны сам я не хотел бы видеть,
Которую ты можешь осветить4
не возбудила сочувствия нигде, кроме самого дружеского круга записных любителей. «Русскому писателю» {Исключенное из настоящего собрания с перемещением лучших строф в другое стихотворение. (Примеч. А. В. Дружинина.)} всюду возбуждало хвалу, между тем как о «Саше», прелестной по частностям, едва ли где-нибудь было сказано одно теплое слово. Но всего грустнее бывало нам тогда, когда нам приходилось слушать отзывы любителей прозы о произведениях г. Некрасова, выдержанных и полных почти до безукоризненности. В первый год существования возобновленного «Современника» наш поэт напечатал в нем «Еду ли ночью по улице темной», произведение, которое, по нашему мнению, не умрет до тех пор, пока русский язык остается языком русским. «Современник» был тогда журналом новым, книжки его всюду читались с той горячностью, которую читатель всегда будет утрачивать на второй год какого бы то ни было издания. Стихотворение, нами названное, было прочитано всеми и всем понравилось, но как оно понравилось? Всюду читатель, и дилетант, и ценитель литературы, останавливался на частностях вещи, на ее прозе, на двух-трех энергических стихах, не более. Кощунство лиц, повторявших при нас с превеликим неистовством
Купит хозяин, с проклятьем, три гроба
можно измерить сотнями — до сих пор этот стих на нас действует неприятно от мысли о лицах, его повторявших. Потом огромное число дельных людей, любителей современного поучения, тщилось извлечь из стихотворения мораль в новом вкусе, мораль, собственно им принадлежащую, мораль, которую мог сочинить в двух строках всякий человек, читавший два-три мизантропически чувствительных романа. Тем дело и кончилось. Никто не отдал справедливости глубокой поэзии произведения, истинно поэтической последовательности, с какою оно было выдержано, никто даже из любителей псевдореальной картинности не остановился над захватывающей душу рембрандтовской картиной сумрачного вечера:
В комнате нашей, сырой и холодной,
Пар от дыханья волнами ходил.
Помнишь от труб заунывные звуки,
Шелест дождя, полусвет, полутьму?
Плакал твой сын, и холодные руки
Ты согревала дыханьем ему…
Никто не сказал слова привета этой широкой волне чистой поэзии, бурно подхватывающей развитого читателя и разом ставящего перед ним целую сторону жизни — какую бы ни было сторону! Никто не поклонился поэту и свободному творцу, не примеченному второпях за воображаемым сатириком и мизантропом. Все совались с чувствительной современной моралью, там, где не было ни морали, ни современности, там, где требовалось только глядеть и чтить силу поэта. Никто не подозревал, что современная мораль слаба, негодна и жалка перед строками, вылившимися из сердца, согретыми святым огнем выстраданного творчества, предназначенными, по существу своему, не на туманную современную цель, а на вечную цель вечной поэзии, на просветление и смягчение души человеческой! Так, поэт истинный всегда обладает тем ясновидением духа, про которое говорил Гоголь в последних своих письмах. Не для него дидактика и мутная современность — ему стоит только сказать одно слово от искреннего сердца для того, чтобы все дидактические постройки перед этим словом показались мизернее детских карточных домиков. Но большая часть ценителей г. Некрасова с каким-то упорством незрелых юношей отворачивалась от самого сильного элемента некрасовской поэзии. Лучшие его вещи пленили публику не поэтической силою, в них разлитой, а ловким сюжетцем, колким стихом, иногда даже циничной подробностью, иногда даже прозаической жестокостью отделки. Очень стоило хвалить поэта за то, что всякий ловкий фельетонист сотворит в мгновение. Очень стоило заучивать стихотворения за достоинства, возможные для всякой статейки в прозе.
Пора кончить с ценителями Некрасова и вернуться к самому поэту. Книжка стихотворений, лежащая перед нами, получила громкий успех и вполне того заслуживает. В художественном отношении важная как краеугольный камень всей репутации ее автора, она могла бы быть издана удовлетворительнее, с пропуском нескольких вещей положительно слабых, даже неприятных при чтении. Взамен этого недостатка она имеет свое достоинство: в ней поэт высказался весь со своими прекрасными и — просим прощения — со своими никуда не годными сторонами. Весь диапазон некрасовского голоса, от вещей первоклассных по красоте до трех стихотворений «На улице», из которых первое достойно назваться безобразнейшим в своем роде5, теперь нам известен и понятен. Муза г. Некрасова сама отдается читателю с первой минуты, без притворства и ужимок, простая и откровенная, гордая и печальная, светлая и сухая в одно время, искренняя до жесткости, прямодушная до наивности. Она не румянится, готовясь выйти к публике, даже не приводит в порядок своего небрежного убора и очень часто, смешивая благородные чувства с грубостью манер, нравится самою своей неизысканностью. Это качество истинно редкое в наше время. Когда каждый поэт силится одевать свою музу на все фешенебельные манеры, драпируя ее и в плащ Байрона, и в безукоризненно плоский наряд модного льва, сокрушителя сердец женских. Оттого о собрании стихотворений Некрасова говорить гораздо легче, чем о собрании всяких других стихотворений. Книжка поэта нашего сама распадается на несколько отделов, несходных между собой и легко доступных пониманию ценителя. Посмотреть это разделение и сказать о каждом из отделов наше искреннее слово — вот вся цель предстоящего разбора. Приступим же к труду не теряя времени, отделим вечное от временного, без щепетильности укажем на произведения, не делающие чести поэту, — и тогда дело наше сделается само собою.
Собрание стихотворений г. Некрасова открывается довольно пространной вещью «Поэт и Гражданин», то есть одним из тех разговоров в стихах, которые, с легкой руки великого Гете, стали почти необходимой принадлежностью каждого поэта, желающего ясно определить для публики свое призвание, свое значение и смысл своих произведений. У нас подобного рода разговоры удались Пушкину и Лермонтову — таланты меньшего объема обыкновенно спотыкались на трудной задаче, уже потому трудной, что, выполняя ее, чрезвычайно легко впасть в тон подражателя. Как ни бейся и ни хитри, а беседы поэта с книгопродавцем, директором театра, другом, журналистом и гражданином будут все похожи одна другую. За довольно обыденным вступлением пойдет изложение взглядов, за изложением — небольшой спор, потом morceau de resistance {ядро, зерно (фр.).} всей пьесы — т. е. импровизация поэта, а напоследок, напоследок или шуточка, или прозаическая строка, или ряд точек, как у г. Некрасова. «Гражданин и Поэт», невзирая на энергию многих стихов, на два или три поэтические места, на тщательность обработки, редкую у поэта нашего, — есть по нашему мнению, произведение, неудачное по форме и крайне шаткое по идеям, в нем изложенным. Мы не остановимся ни над очень прозаическим вступлением, ни на комплиментах Гражданина Поэту, чересчур преувеличенных, невзирая на их жесткость, а прямо перейдем ко взгляду поэта и покажем его раздвоенность, а следовательно, и слабость. Гость гражданского свойства прямо зовет поэта на современно-поучительную дорогу, требует от него, чтобы он разошелся с преданиями художника — Пушкина, советует ему карать лихоимцев и порочных людей, осмеивать общественные недостатки и так далее. На такие требования, высказанные ясно и категорически, поэт наш может отвечать двумя способами. Или он скажет гражданину: «Я с тобой согласен и исполню твое желание, хотя бы к ущербу моей поэзии», — или же ответит ему: «Убирайся прочь, если моя муза жизненна и всестороння, она скажется миру, какова она есть, и без твоих советов». К сожалению, поэт наш, т. е. сам г. Некрасов, не говорит гостю ни того, ни другого, а мирится с ним на основании какого-то mezzotermine {компромисс, «третий путь» (ит.).}, в котором не нашли мы ни отрицания чистой поэзии, ни преклонения пред законами чистого и независимого творчества. Немецкие поэты-дидактики были по крайней мере логичнее в своих заблуждениях, готовясь на дело современного поучения, они с жаром юности прямо говорили, что век поэзии минул, что человечество уже не может тешиться стихотворными побрякушками и так далее. В их увлечении было много смелости, прямоты, а оттого и самое их падение оказалось поучительным для нашего нового поколения. Г. Некрасов не доходит до бывших германских понятий о современности искусства. Это делает ему честь как поэту, но положительно вредит ему как автору «Поэта и Гражданина». Дойди он до положительной аберрации в своей теории, мы ответили бы на нее положительным опровержением, теперь же в ней опровергать нечего, потому что сам автор себя опровергает всякой строкой своего разговора. Его Поэт читает Пушкина с умилением, потом называет свою страсть к чистому искусству плодом души ленивой, потом проводит дельную мысль о том, что всякий безмолвный гражданин может трудиться на пользу родины не хуже поэта, потом сильно озлобляется на себя, на свою жизнь и почти переходит на сторону своего посетителя {*}. Во всем этом водовороте сильных стихов, поэтических отрывков, непонятных намеков и весьма старых умствований есть некоторая прелесть, но нет мысли практической и отчетливой. Вообще во многих стихотворениях Некрасова под железным стихом скрыта шаткость поэтического взгляда и недоверие к своему призванию — недостатки эти в «Поэте и Гражданине» сильнее, чем где-либо. Пройдем же скорее мимо всего произведения, отметив в нем две превосходные частности — место, начинающееся словами
Заметен ты,
Но так без солнца звезды видны,
и другой отрывок, после двух образцовых стихов:
Клянусь, — я честно ненавидел,
Клянусь, я искренно любил.
{* А в то же время Гражданин, поощритель временной дидактики, ниспровергает всю свою теорию следующим малым числом стихов:
Служа искусству,
Для блага ближнего живи,
Свой гений подчиняя чувству
Всеобнимающей любви!
И если ты богат дарами,
Их выставлять не хлопочи.
В твоем труде заблещут сами
Их животворные лучи…
В подчеркнутых нами превосходных строках — смертный приговор всей стихотворной дидактики. Самый зоркий ее противник в ту пору, когда дидактика еще имела противников и должна была их иметь — не придумает лучшего опровержения по части преднамеренно-поучительного элемента поэзии. (Примеч. А. В. Дружинина.)}
Несмотря на недостатки идеи и формы, вступительное стихотворение книги г. Некрасова заставляет нас угадывать о том, что найдем мы во всем собрании. И действительно, подобно тому как в предисловии находим мы несколько разнородных элементов, не вполне ладящих между собою, так и во всей массе некрасовских стихотворений, теперь лежащих перед нами, видим мы яркое соединение недостатков и качеств самого разнообразного свойства. Глубже вглядевшись в сущность дарования поэта нашего, мы находим возможность разделить всю его книжку на три отдела. Как почти единственный представитель дидактической поэзии у нас в России, Некрасов от самого этого обстоятельства сказывается так легко, со всей массою своих произведений! Три отдела, о которых нами упомянуто, родились от сущности его верования и направления, ему приданного. Перечесть и обозначить каждый из отделов можно несколькими словами. К первому надо причислить стихотворения, созданные свободной и независимой музою, — этот отдел не только выше двух, но, сверх того, один свидетельствует о замечательном поэтическом таланте Некрасова. Ко второму отделу, тоже весьма замечательному, надо отнести вещи, проникнутые современным поучением и все-таки исполненные поэтической силы. К третьему относим мы те стихотворения…6
ПРИМЕЧАНИЯ
Впервые опубликовано: Некрасовский сборник, IV. Л., Наука, 1967, с. 243-251.
Печатается по этому изданию.
Опубликовавший эту статью М. Г. Зельдович считает, что Дружинин работал над ней в октябре — ноябре 1856 г.; публикация статьи тогда оказалась невозможной по цензурным условиям. Рукопись не имеет окончания.
1 Строки из стихотворения Некрасова «Праздник жизни — молодости годы..,» (1855).
2 Подразумевается диссертация Н. Г. Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности».
3 Речь идет о книге «Дамский альбом, составленный из отборных страниц русской поэзии». Спб., 1854.
4 Строки из стихотворения Некрасова «Замолкни, Муза мести и печали!..» (1855).
5 Первым в цикле «На улице» является стихотворение «Вор».
6 На этом рукопись обрывается.