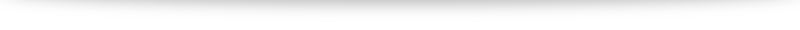Новый, еще не оконченный роман графа Л. Толстого можно назвать
образцовым произведением по части патологии русского общества. В этом романе целый ряд ярких и разнообразных картин, написанных с самым величественным и невозмутимым эпическим спокойствием, ставит и решает вопрос о том, что делается с человеческими умами и характерами при таких условиях, которые дают людям возможность обходиться без знаний, без мыслей, без энергии и без труда.
Очень может быть, и даже очень вероятно, что граф Толстой не имеет в виду постановки и решения такого вопроса. Очень вероятно, что он просто хочет нарисовать ряд картин из жизни русского барства во времена Александра I. Он видит сам и старается показать другим, отчетливо, до мельчайших подробностей и оттенков, все особенности, характеризующие тогдашнее время и тогдашних людей, людей того круга, который всего более ему интересен или доступен его изучению. Он старается только быть правдивым и точным; его усилия не клонятся к тому, чтобы поддержать или опровергнуть создаваемыми образами какую бы то ни было теоретическую идею; он, по всей вероятности, относится к предмету своих продолжительных и тщательных исследований с тою невольною и естественною нежностью, которую обыкновенно чувствует даровитый историк к далекому или близкому прошедшему, воскресающему под его руками; он, быть может, находит даже в особенностях этого прошедшего, в фигурах и характерах выведенных личностей, в понятиях и привычках изображенного общества многие черты, достойные любви и уважения. Все это может быть, все это даже очень вероятно. Но именно оттого, что автор потратил много времени, труда и любви на изучение и изображение эпохи и ее представителей, именно поэтому созданные им образы живут своею собственною жизнью, независимою от намерения автора, вступают сами в непосредственные отношения с читателями, говорят сами за себя и неудержимо ведут читателя к таким мыслям и заключениям, которых автор не имел в виду и которых он, быть может, даже не одобрил бы.
Эта правда, бьющая живым ключом из самих фактов, эта правда, прорывающаяся помимо личных симпатий и убеждений рассказчика, особенно драгоценна по своей неотразимой убедительности. Эту-то правду, это шило, которого нельзя утаить в мешке, мы постараемся теперь извлечь из романа графа Толстого.
Роман «Война и мир» представляет нам целый букет разнообразных и превосходно отделанных характеров, мужских и женских, старых и молодых. Особенно богат выбор молодых мужских характеров. Мы начнем именно с них, и начнем снизу, то есть с тех фигур, насчет которых разногласие почти невозможно и которых неудовлетворительность будет, по всей вероятности, признана всеми читателями.
Первым портретом в нашей картинной галлерее будет князь Борис Друбецкой, молодой человек знатного происхождения, с именем и с связями, но без состояния, прокладывающий себе дорогу к богатству и к почестям своим умением ладить с людьми и пользоваться обстоятельствами. Первое из тех обстоятельств, которыми он пользуется с замечательным искусством и успехом, — это его родная мать, княгиня Анна Михайловна. Всякому известно, что мать, просящая за сына, оказывается всегда и везде самым усердным, расторопным, настойчивым, неутомимым и неустрашимым из адвокатов. В ее глазах цель оправдывает и освящает все средства, без малейшего исключения. Она готова просить, плакать, заискивать, подслуживаться, пресмыкаться, надоедать, глотать всевозможные оскорбления, лишь бы только ей хоть с досады, из желания отвязаться от нее и прекратить ее докучливые вопли, бросили, наконец, для сына назойливо требуемую подачку. Борису все эти достоинства матери хорошо известны. Он знает также и то, что все унижения, которым добровольно подвергает себя любящая мать, нисколько не роняют сына, если только этот сын, пользуясь ее услугами, держит себя при этом с достаточною, приличною самостоятельностью.
Борис выбирает себе роль почтительного и послушного сына, как самую выгодную и удобную для себя роль. Выгодна и удобна она, во-первых, потому, что налагает на него обязанность не мешать тем подвигам низкопоклонства, которыми мать кладет основание его блистательной карьере. Во-вторых, она выгодна и удобна тем, что выставляет его в самом лучшем свете в глазах тех сильных людей, от которых зависит его преуспевание. «Какой примерный молодой человек! — должны думать и говорить о нем все окружающие. — Сколько в нем благородной гордости и какие великодушные усилия употребляет он для того, чтобы из любви к матери подавить в себе слишком порывистые движения юной нерасчетливой строптивости, такие движения, которые могли бы огорчить бедную старушку, сосредоточившую на карьере сына все свои помыслы и желания. И как тщательно и как успешно он скрывает свои великодушные усилия под личиною наружного спокойствия! Как он понимает, что эти усилия самым фактом своего существования могли бы служить тяжелым укором его бедной матери, совершенно ослепленной своими честолюбивыми материнскими мечтами и планами. Какой ум, какой такт, какая сила характера, какое золотое сердце и какая утонченная деликатность!»
Когда Анна Михайловна обивает пороги милостивцев и благодетелей, Борис держит себя пассивно и спокойно, как человек, решившийся раз навсегда, почтительно и с достоинством покоряться своей тяжелой и горькой участи, и покоряться так, чтобы всякий это видел, но чтобы никто не осмеливался сказать ему с теплым сочувствием: «Молодой человек, по вашим глазам, по вашему лицу, по всей вашей удрученной наружности я вижу ясно, что вы терпеливо и мужественно несете тяжелый крест». Он едет с матерью к умирающему богачу Безухову, на которого Анна Михайловна возлагает какие-то надежды, преимущественно потому, что «он так богат, а мы так бедны!» Он едет, но даже самой матери своей дает почувствовать, что делает это исключительно для нее, что сам не предвидит от этой поездки ничего, кроме унижения, и что есть такой предел, за которым ему может изменить его покорность и его искусственное спокойствие. Мистификация ведена так искусно, что сама Анна Михайловна боится своего почтительного сына, как вулкана, от которого ежеминутно можно ожидать разрушительного извержения; само собою разумеется, что этою боязнью усиливается ее уважение к сыну; она на каждом шагу оглядывается на него, просит его быть ласковым и внимательным, напоминает ему его обещания, прикасается к его руке, чтобы, смотря по обстоятельствам, то успокоивать, то возбуждать его. Тревожась и суетясь таким образом, Анна Михайловна пребывает в той твердой уверенности, что без этих искусных усилий и стараний с ее стороны все пойдет прахом, и непреклонный Борис если не прогневает навсегда сильных людей выходкою благородного негодования, то по крайней мере наверное заморозит ледяною холодностью обращения все сердца покровителей и благодетелей.
Если Борис так удачно мистифицирует родную мать, женщину опытную и неглупую, у которой он вырос на глазах, то, разумеется, он еще легче и так же успешно морочит посторонних людей, с которыми ему приходится иметь дело. Он кланяется благодетелям и покровителям учтиво, но так спокойно и с таким скромным достоинством, что сильные лица сразу чувствуют необходимость посмотреть на него повнимательнее и выделить его из толпы нуждающихся клиентов, за которых Просят докучливые маменьки и тетушки. Он отвечает им на их небрежные вопросы точно и ясно, спокойно И почтительно, не выказывая ни досады на их резкий тон, ни желания вступить с ними в дальнейший разговор. Глядя на Бориса и выслушивая его спокойные ответы, покровители и благодетели немедленно проникаются тем убеждением, что Борис, оставаясь в границах строгой вежливости и безукоризненной почтительности, никому не позволит помыкать собою и всегда сумеет постоять за свою дворянскую честь. Являясь просителем и искателем, Борис умеет свалить всю черную работу этого дела на мать, которая, разумеется, с величайшею готовностью подставляет свои старые плечи и даже упрашивает сына, чтобы он позволил ей устроивать его повышение. Предоставляя матери пресмыкаться перед сильными лицами, Борис сам умеет оставаться чистым и изящным, скромным, но независимым джентльменом. Чистота, изящество, скромность, независимость и джентльменство, разумеется, дают ему такие выгоды, которых не могли бы ему доставить жалобное попрошайничество и низкое угодничество. Ту подачку, которую можно бросить робкому замарашке, едва осмеливающемуся сидеть на кончике стула и стремящемуся поцеловать благодетеля в плечико, до крайности неудобно, конфузно и даже опасно предложить изящному юноше, в котором приличная скромность уживается самым гармоническим образом с неистребимым и вечно-бдительным чувством собственного достоинства. Такой пост, на который совершенно невозможно было бы поставить просто и откровенно пресмыкающегося просителя, в высшей степени приличен для скромно-самостоятельного молодого человека, умеющего во-время поклониться, во-время улыбнуться, вовремя сделать серьезное и даже строгое лицо, во-время уступить или переубедиться, во-время обнаружить благородную стойкость, ни на минуту не утрачивая спокойного самообладания и прилично почтительной развязности обращения.
Патроны обыкновенно любят льстецов; им приятно видеть в благоговении окружающих людей невольную дань восторга, приносимую гениальности их ума и несравненному превосходству их нравственных качеств. Но чтобы лесть производила приятное впечатление, она должна быть достаточно тонка, и чем умнее тот человек, которому льстят, тем тоньше должна быть лесть, и чем она тоньше, тем приятнее она действует. Когда же лесть оказывается настолько грубою, что тот человек, к которому она обращается, может распознать ее неискренность, то она способна произвести на него совершенно обратное действие и серьезно повредить неискусному льстецу. Возьмем двоих льстецов: один млеет перед своим патроном, во всем с ним соглашается и ясно показывает всеми своими действиями и словами, что у него нет ни собственной воли, ни собственного убеждения, что он, похваливши сейчас одно суждение патрона, готов через минуту превознести другое суждение, диаметрально противоположное, лишь бы только оно было высказано тем же патроном; другой, напротив того, умеет показать, что ему, для угождения патрону, нет ни малейшей надобности отказываться от своей умственной и нравственной самостоятельности, что все суждения патрона покоряют себе его ум силою своей собственной неотразимой внутренней убедительности, что он повинуется патрону во всякую данную минуту не с чувством рабского страха и рабской корыстолюбивой угодливости, а с живым и глубоким наслаждением свободного человека, имевшего счастье найти себе мудрого и великодушного руководителя. Понятное дело, что из этих двоих льстецов второй пойдет гораздо дальше первого. Первого будут кормить и презирать; первого будут рядить в шуты; первого не пустят дальше той лакейской роли, которую он на себя принял в близоруком ожидании будущих благ; со вторым, напротив того, будут советоваться; его могут полюбить; к нему могут даже почувствовать уважение; его могут произвести в друзья и наперсники. Великосветский Молчалин, князь Борис Друбецкой идет по этому второму пути и, разумеется, высоко неся свою красивую голову и не марая кончика ногтей какою бы то ни было работою, легко и быстро доберется этим путем до таких известных степеней, до которых никогда не доползет простой Молчалин, простодушно подличающий и трепещущий перед начальником и смиренно наживающий себе раннюю сутуловатость за канцелярскими бумагами. Борис действует в жизни так, как ловкий и расторопный гимнастик лезет на дерево. Становясь ногою на одну ветку, он уже отыскивает глазами другую, за которую он в следующее мгновение мог бы ухватиться руками; его глаза и все его помыслы направлены кверху; когда рука его нашла себе надежную точку опоры, он уже совершенно забывает, о той ветке, на которой он только что сейчас стоял всею тяжестью своего тела и от которой его нога уже начинает отделяться. На всех своих знакомых и на всех тех людей, с которыми он может познакомиться, Борис смотрит именно как на ветки, расположенные одна над другою, в более или менее отдаленном расстоянии от вершины огромного дерева, от той вершины, где искусного гимнастика ожидает желанное успокоение среди роскоши, почестей и атрибутов власти. Борис сразу, проницательным взглядом даровитого полководца или хорошего шахматного игрока, схватывает взаимные отношения своих знакомых и те пути, которые могут повести его от одного уже сделанного знакомства к другому, еще манящему его к себе, и от этого другого к третьему, еще закутанному в золотистый туман величественной недоступности. Сумевши показаться добродушному Пьеру Безухову _милым, умным и твердым молодым человеком_, сумевши даже смутить и растрогать его своим умом и твердостью в тот самый раз, когда он вместе с матерью приезжал к старому графу Безухову просить на бедность и на гвардейскую обмундировку, Борис добывает себе от этого Пьера рекомендательное письмо к адъютанту Кутузова, князю Андрею Болконскому, а через Болконского знакомится с генерал-адъютантом Долгоруковым и попадает сам в адъютанты к какому-то важному лицу.
Поставив себя в приятельские отношения с князем Болконским, Борис тотчас осторожно отделяет ногу от той ветки, на которой он держался. Он немедленно начинает исподволь ослаблять свою дружескую связь с товарищем своего детства, молодым графом Ростовым, у которого живал в доме по целым годам и мать которого только что подарила ему, Борису, на обмундировку пятьсот рублей, принятых княгинею Анною Михайловною со слезами умиления и радостной благодарности. После полугодовой разлуки, после походов и сражений, выдержанных молодым Ростовым, Борис встречается с ним, с другом детства, и в это же первое свидание Ростов замечает, что Борису, к которому в это же время приходит Болконский, как будто совестно вести дружеский разговор с армейским гусаром. Изящного гвардейского офицера, Бориса, коробит армейский мундир и армейские замашки молодого Ростова, а главное, его смущает та мысль, что Болконский составит себе о нем невыгодное мнение, видя его дружескую короткость с человеком дурного тона. В отношениях Бориса к Ростову тотчас обнаруживается легкая натянутость, которая особенно удобна для Бориса именно тем, что к ней невозможно придраться, что ее невозможно устранить откровенными объяснениями и что ее также очень трудно не заметить и не почувствовать. Благодаря этой тонкой натянутости, благодаря этому, едва уловимому диссонансу, чуть-чуть царапающему нервы, человек дурного тона будет потихоньку удален, не имея никакого повода жаловаться, обижаться и вламываться в амбицию, а человек хорошего тона увидит и заметит, что к изящному гвардейскому офицеру, князю Борису Друбецкому, лезут в друзья неделикатные молодые люди, которых он кротко и грациозно умеет отодвигать назад, на их настоящее место.
В походе, на войне, в светских салонах — везде Борис преследует одну и ту же цель, везде он думает исключительно или по крайней мере прежде всего об интересах своей карьеры. Пользуясь с замечательною понятливостью всеми мельчайшими указаниями опыта, Борис скоро превращает в сознательную и систематическую тактику то, что прежде было для него делом инстинкта и счастливого вдохновения. Он составляет безошибочно верную теорию карьеры и действует по этой теории с самым неуклонным постоянством. Познакомившись с князем Болконским и приблизившись через него к высшим сферам военной администрации, Борис ясно понял то, что он предвидел прежде, именно то, что в армии, кроме той субординации и дисциплины, которая была написана в уставе и которую знали в полку и он знал, была другая более существенная субординация, та, которая заставляла этого затянутого с багровым лицом генерала почтительно дожидаться в то время, как капитан князь Андрей для своего удовольствия находил более удобным разговаривать с прапорщиком Друбецким. Больше чем когда-нибудь Борис решился служить впредь не по той писанной в уставе, а по этой неписаной субординации. Он теперь чувствовал, что только вследствие того, что он был рекомендован князю Андрею, он уже стал сразу выше генерала, который в других случаях, во фронте, мог уничтожить его, гвардейского прапорщика» (1, 75) {1}.
Основываясь на самых ясных и недвусмысленных указаниях опыта, Борис решает раз навсегда, что служить лицам несравненно выгоднее, чем служить делу, и, как человек, нисколько не связанный в своих действиях нерасчетливою любовью к какой бы то ни было идее или к какому бы то ни было делу, он кладет себе за правило всегда служить только лицам и возлагать всегда все свое упование никак не на свои какие-нибудь собственные действительные достоинства, а только на свои хорошие отношения к влиятельным лицам, умеющим награждать и выводить в люди своих верных и покорных слуг.
В случайно завязавшемся разговоре о службе Ростов говорит Борису, что ни к кому не пойдет в адъютанты, потому что это «лакейская должность». Борис, разумеется, оказывается настолько свободным от предрассудков, что его не смущает резкое и неприятное слово «лакей». Во-первых, он понимает, что _comparaison nest pas raison_ {Сравнение — не доказательство (фр.). — Ред.} и что между адъютантом и лакеем огромная разница, потому что первого с удовольствием принимают в самых блестящих гостиных, а второго заставляют стоять в передней и держать господские шубы. Во-вторых, понимает он и то, что многим лакеям живется гораздо приятнее, чем иным господам, имеющим полное право считать себя доблестными слугами отечества. В-третьих, он всегда готов сам надеть какую угодно ливрею, если только она быстро и верно поведет его к цели. Это он и высказывает Ростову, говоря ему, в ответ на его выходку об адъютанте, что «желал бы и очень попасть в адъютанты», «затем что, уже раз пойдя по карьере военной службы, надо стараться сделать, коль возможно, блестящую карьеру» (I, 62) {2}. Эта откровенность Бориса очень замечательна. Она доказывает ясно, что большинство того общества, в котором он живет и которого мнением он дорожит, совершенно одобряет его взгляды на прокладывание дороги, на служение лицам, на неписаную субординацию и на несомненные удобства ливреи, как средства, ведущего к цели. Борис называет Ростова мечтателем за его выходку против служения лицам, и общество, к которому принадлежит Ростов, без всякого сомнения не только подтвердило бы, но еще и усилило бы этот приговор в очень значительной степени, так что Ростов, за свою попытку отрицать систему протекции и неписаную субординацию, оказался бы не мечтателем, а просто глупым и грубым армейским буяном, неспособным понимать и оценивать самые законные и похвальные стремления благовоспитанных и добропорядочных юношей.
Борис, разумеется, продолжает преуспевать под сенью своей непогрешимой теории, вполне соответствующей механизму и духу того общества, среди которого он ищет себе богатства и почета. «Он вполне усвоил себе ту понравившуюся ему в Ольмюце неписаную субординацию, по которой прапорщик мог стоять без сравнения выше генерала и по которой, для успеха на службе, были нужны не усилия на службе, не труды, не храбрость, не постоянство, а нужно было только уменье обращаться с теми, которые вознаграждают за службу, — и он часто удивлялся сам своим быстрым успехам и тому, как другие могли не понимать этого. Вследствие этого открытия его весь образ жизни его, все отношения с прежними знакомыми, все его планы на будущее — совершенно изменились. Он был небогат, но последние свои деньги он употреблял на то, чтобы быть одетым лучше других; он скорее лишил бы себя многих удовольствий, чем позволил бы себе ехать в дурном экипаже или показаться в старом мундире на улицах Петербурга. Сближался он и искал знакомств только с людьми, которые были выше его и потому могли быть ему полезны» (II, 106) {3}.
С особенным чувством гордости и удовольствия Борис входит в дома высшего общества; приглашение от фрейлины Анны Павловны Шерер он принимает за «важное повышение по службе»; на вечере у нее он, конечно, ищет себе не развлечений; он, напротив того, трудится по-своему в ее гостиной; он внимательно изучает ту местность, на которой ему предстоит маневрировать, чтобы завоевать себе новые выгоды и заполонить новых благодетелей; он внимательно наблюдает каждое лицо и оценивает выгоды и возможности сближения с каждым из них. Он вступает в это высшее общество с твердым намерением подделаться под него, то есть укоротить и сузить свой ум настолько, насколько это понадобится, чтобы ничем не выдвигаться из общего уровня и ни под каким видом не раздражить своим превосходством того или другого ограниченного человека, способного быть полезным со стороны неписаной субординации.
На вечере у Анны Павловны один очень глупый юноша, сын министра князя Курагина, после неоднократных приступов и долгих сборов, производит на свет глупую и избитую шутку. Борис, конечно, настолько умен, что такие шутки должны коробить его и возбуждать в нем то чувство отвращения, которое обыкновенно родится в здоровом человеке, когда ему приходится видеть или слышать идиота. Борис не может находить эту шутку остроумною или забавною, но, находясь в великосветском салоне, он не осмеливается выдержать эту шутку с серьезною физиономиею, потому что его серьезность может быть принята за молчаливое осуждение каламбура, над которым, быть может, сливкам петербургского общества угодно будет засмеяться. Чтобы смех этих сливок не застал его врасплох, предусмотрительный Борис принимает свои меры в ту самую секунду, когда плоская и чужая острота слетает с губ князя Ипполита Курагина. Он осторожно улыбается, так что его улыбка может быть отнесена к насмешке или к одобрению шутки, смотря по тому, как она будет принята. Сливки смеются, признавая в милом остряке плоть от плоти своей и кость от костей своих, — и меры, заблаговременно принятые Борисом, оказываются для него в высокой степени спасительными.
Глупая красавица, достойная сестра Ипполита Курагина, графиня Элен Безухова, пользующаяся репутациею прелестной и очень умной женщины и привлекающая в свой салон все, что блестит умом, богатством, знатностью или высоким чином, — находит для себя удобным приблизить красивого и ловкого адъютанта Бориса к своей особе. Борис приближается с величайшею готовностью, становится ее любовником и в этом обстоятельстве усматривает не без основания новое немаловажное повышение по службе. Если путь к чинам и деньгам проходит через будуар красивой женщины, то, разумеется, для Бориса нет достаточных оснований остановиться в добродетельном недоумении или поворотить в сторону. Ухватившись за руку своей глупой красавицы, Друбецкой весело и быстро продолжает подвигаться вперед к золотой цели.
Он выпрашивает у своего ближайшего начальника позволение состоять в его свите в Тильзите, во время свидания обоих императоров, и дает ему почувствовать при этом случае, как внимательно он, Борис, следит за показаниями политического барометра и как тщательно он соображает все свои мельчайшие слова и действия с намерениями и желаниями высоких особ. То лицо, которое до сих пор было для Бориса генералом Бонапарте, узурпатором и врагом человечества, становится для него императором Наполеоном и великим человеком с той минуты, как, узнав о предположенном свидании, Борис начинает проситься в Тильзит. Попав в Тильзит, Борис почувствовал, что его положение упрочено. «Его не только знали, но к нему пригляделись и привыкли. Два раза он исполнял поручения к самому государю, так что государь знал его в лицо, и все приближенные не только не дичились его, как прежде, считая за новое лицо, но удивились бы, ежели бы его не было» (II, 172) {4}.
На том пути, по которому идет Борис, нет ни остановок, ни свертков. Может случиться неожиданная катастрофа, которая вдруг изомнет и изломает всю отлично начавшуюся и благополучно продолжаемую карьеру; может такая катастрофа застигнуть даже самого осторожного и расчетливого человека; но от нее трудно ожидать, чтобы она направила силы человека к полезному делу и открыла широкий простор для их развития; после такой катастрофы человек обыкновенно оказывается приплюснутым и раздавленным; блестящий, веселый и преуспевающий офицер или чиновник превращается всего чаще в жалкого ипохондрика, в откровенно-низкого попрошайку или просто в горького пьяницу. Помимо же такой неожиданной катастрофы, при ровном и благоприятном течении обыденной жизни, нет никаких шансов, чтобы человек, находящийся в положении Бориса, вдруг оторвался от своей постоянной дипломатической игры, всегда одинаково для него важной и интересной, чтобы он вдруг остановился, оглянулся на самого себя, отдал себе ясный отчет в том, как мельчают и вянут живые силы его ума, и энергическим усилием воли перепрыгнул вдруг с дороги искусного, приличного и блистательно-успешного выпрашивания на совершенно неизвестную ему дорогу неблагодарного, утомительного и совсем не барского труда. Дипломатическая игра имеет такие затягивающие свойства и дает такие блестящие результаты, что человек, погрузившийся в эту игру, скоро начинает считать мелким и ничтожным все, что находиться за ее пределами; все события, все явления частной и общественной жизни оцениваются по своему отношению к выигрышу или проигрышу; все люди делятся на средства и на помехи; все чувства собственной души распадаются на похвальные, то есть ведущие к выигрышу, и предосудительные, то есть отвлекающие внимание от процесса игры. В жизни человека, втянувшегося в такую игру, нет места таким впечатлениям, из которых могло бы развернуться сильное чувство, не подчиненное интересам карьеры. Серьезная, чистая, искренняя любовь, без примеси корыстных или честолюбивых расчетов, любовь со всею светлою глубиною своих наслаждений, любовь со всеми своими торжественными и святыми обязанностями не может укорениться в высушенной душе человека, подобного Борису. Нравственное обновление путем счастливой любви для Бориса немыслимо. Это доказано в романе графа Толстого его историею с Наташею Ростовою, сестрою того армейского гусара, которого мундир и манеры коробят Бориса в присутствии князя Болконского.
Когда Наташе было 12 лет, а Борису лет 17 или 18, они играли между собою в любовь; один раз, незадолго перед отъездом Бориса в полк, Наташа поцеловала его, и они решили, что свадьба их состоится через четыре года, когда Наташе минет 16 лет. Прошли эти четыре года, жених и невеста — оба если не забыли своих взаимных обязательств, то по крайней мере стали смотреть на них как на ребяческую шалость; когда Наташа уже в самом деле могла быть невестою и когда Борис был уже молодым человеком, стоящим, как это говорится, на самой лучшей дороге, — они увиделись и снова заинтересовались друг другом. После первого свидания «Борис сказал себе, что Наташа для него точно так же привлекательна, как и прежде, но что он не должен отдаваться этому чувству, потому что женитьба на ней, девушке почти без состояния, была бы погибелью его карьеры, а возобновление прежних отношений без цели женитьбы — было бы неблагородным поступком» (III, 50) 5.
Несмотря на это благоразумное и спасительное совещание с самим собою, несмотря на решение избегать встреч с Наташей, Борис увлекается, начинает часто ездить к Ростовым, проводит у них целые дни, слушает песни Наташи, пишет ей стихи в альбом и даже перестает бывать у графини Безуховой, от которой он получает ежедневно пригласительные и укорительные записки. Он все собирается объяснить Наташе, что никак и никогда не может сделаться ее мужем, но у него все не хватает сил и мужества на то, чтобы начать и довести до конца такое щекотливое объяснение. Он с каждым днем более и более запутывается. Но некоторая временная и мимолетная невнимательность к великим интересам карьеры составляет крайний предел увлечений, возможных для Бориса. Нанести этим великим интересам сколько-нибудь серьезный и непоправимый удар — это для него невообразимо, даже под влиянием сильнейшей из доступных ему страстей.
Стоит только старой графине Ростовой перемолвить серьезное слово с Борисом, стоит ей только дать ему почувствовать, что его частые посещения замечены и приняты к сведению, — и Борис тотчас, чтобы не компрометировать девушку и не портить карьеру, обращается в благоразумное и благородное бегство. Он перестает бывать у Ростовых и даже, встретившись с ними на бале, проходит мимо них два раза и всякий раз отвертывается (III, 65) {6}.
Проплыв благополучно между подводными камнями любви, Борис уже безостановочно, на всех парусах летит к надежной пристани. Его положение на службе, его связи и знакомства доставляют ему вход в такие дома, где водятся очень богатые невесты. Он начинает думать, что ему пора заручиться выгодною женитьбою. Его молодость, его красивая наружность, его презентабельный мундир, его умно и расчетливо веденная карьера составляют такой товар, который можно продать за очень хорошую цену. Борис высматривает покупательницу и находит ее в Москве.
Жюли Карагина, обладательница огромных пензенских имений и нижегородских лесов, двадцатисемилетняя девушка с красным лицом, с влажными глазами и с подбородком, почти всегда обсыпанным пудрою, — покупает себе Бориса. Перед совершением запродажной сделки Борис ведет себя как чистоплотный кот, которому голод велит перебираться через очень грязную улицу и которому в то же время до смерти не хочется замочить и запачкать бархатные лапки.
Бориса, как того же чистоплотного кота, не смущают никакие нравственные соображения. Обмануть девушку, прикинувшись влюбленным в нее, взять на себя обязательство составить ее счастие и потом оказаться перед нею позорно-несостоятельным, разбить ее жизнь — все это такие мысли, которые не приходят в голову Борису и нимало его не озабочивают. Если бы только это — он не задумался бы ни на минуту, так точно, как не задумался бы чистоплотный кот стащить и съесть плохо прибранный кусок мяса. Голос нравственного чувства, уже достаточно слабый в 17-летнем мальчике, благодаря урокам такой искусной матери, какова была княгиня Анна Михайловна, — замолчал давно в молодом человеке, создавшем себе целую стройную теорию неписаной субординации. Но в Борисе еще не умерла последняя человеческая слабость; его старческая мудрость еще не задавила в нем способности чувствовать физическое отвращение; его тело еще молодо, свежо и сильно; у этого тела есть свои потребности, свои влечения, свои симпатии и антипатии; это тело не может всегда и везде быть послушным и безропотным орудием духа, стремящегося к упроченному положению в высшем обществе; тело возмущается, тело бунтует, и мороз подирает Бориса по коже при мысли о той цене, которую он должен будет заплатить за пензенские имения и нижегородские леса. Пройти через будуар графини Безуховой, пройти через него по расчету для Бориса было легко и приятно, потому что и сам Наполеон, увидав графиню Безухову в ложе эрфуртского театра, сказал об ней: «c’est un superbe animal!» {Это — великолепное животное (фр.). — Ред.} Но чтобы пройти через спальню Жюли Карагиной к той конторке, в которую кладутся доходы с пензенских имений, Борису понадобилось выдержать упорную и продолжительную борьбу с мятежным телом.
«Жюли уже давно ожидала предложения от своего меланхолического обожателя и готова была принять его; но какое-то тайное чувство отвращения к ней, к ее страстному желанию выйти замуж, к ее ненатуральности, и чувство ужаса перед отречением от возможности настоящей любви еще останавливало Бориса… Каждый день, рассуждая сам с собою, Борис говорил себе, что он завтра сделает предложение. Но в присутствии Жюли, глядя на ее красное лицо и подбородок, почти всегда осыпанный пудрой, на ее влажные глаза и на выражение лица, выражавшего всегдашнюю готовность из меланхолии тотчас же перейти к неестественному восторгу супружеского счастья, Борис не мог произнести решительного слова, несмотря на то, что он уже давно в воображении своем считал себя обладателем пензенских и нижегородских имений и распределял употребление в них доходов» (III, 207) {7}.
Само собою разумеется, что Борис выходит победителем из этой мучительной борьбы, так же точно, как вышел победителем из другой борьбы с тем же прихотливым телом, тянувшим его к Наташе Ростовой. Обе победы порадовали материнское сердце Анны Михайловны; обе были бы, без сомнения, решительно одобрены приговором общественного мнения, всегда расположенного сочувствовать торжеству духа над матернею.
В ту минуту, когда Борис, вспыхнув ярким румянцем и платя этим румянцем последнюю дань своей молодости и человеческой слабости, делает предложение Жюли Карагиной и объясняется ей в любви, он утешает и подкрепляет себя тем размышлением, что «всегда может устроить так, чтобы редко видеть ее» (III, 209) {8}.
Борис держится того правила, что в торговом деле поступают начистоту только безнадежно глупые люди и что ловкий обман составляет душу коммерческой операции. И в самом деле, если бы, продав самого себя, он вздумал выдать покупателю весь проданный товар, то какое же удовольствие и какую пользу доставила бы ему устроенная сделка?
II
Займемся теперь молодым армейским гусаром, Николаем Ростовым.
Это совершенная противоположность Бориса. Друбецкой — расчетлив, сдержан, осторожен, все размеряет и взвешивает и во всем действует по заранее составленному и тщательно обдуманному плану. Ростов, напротив того, смел и пылок, не способен и не любит соображать, всегда поступает очертя голову, всегда весь отдается первому влечению и даже чувствует некоторое презрение к тем людям, которые умеют сопротивляться воспринимаемым впечатлениям и переработывать их в себе.
Борис, без всякого сомнения, умнее и глубже Ростова. Ростов, в свою очередь, гораздо даровитее, отзывчивее и многостороннее Бориса. В Борисе гораздо больше способности внимательно наблюдать и осторожно обобщать окружающие факты. В Ростове преобладает способность откликаться всем своим существом на все, что просит, и даже на то, что не имеет права просить у сердца ответа. Борис, при правильном развитии своих способностей, мог бы сделаться хорошим исследователем. Ростов, при таком же правильном развитии, сделался бы, по всей вероятности, недюжинным художником, поэтом, музыкантом или живописцем.
Существенное различие между обоими молодыми людьми обозначается с первого их шага на житейском поприще. Борис, которому нечем жить, протискивается по милости своей пресмыкающейся матери в гвардию и живет там на чужой счет, чтобы только быть на виду и почаще приходить в соприкосновение с высокопоставленными особами. Ростов, получающий от отца по 10 000 рублей в год и имеющий полную возможность жить в гвардии не хуже других офицеров, идет, пылая воинственным и патриотическим жаром, в армейскую кавалерию, чтобы поскорее побывать в деле, погарцевать на ретивой лошади и удивить себя и других подвигами лихого наездничества. Борис ищет прочной и осязательной выгоды. Ростов желает прежде всего и во что бы то ни стало шуму, блеску, сильных ощущений, эффектных сцен и ярких картин, Образ гусара, как он летит в атаку, машет саблей, сверкает очами, топчет трепещущего врага стальными копытами неукротимого коня, образ гусара, как он размашисто и шумно пирует в кругу лихих товарищей, прокопченных пороховым дымом, образ гусара, как он, закручивая длинные усы, звеня шпорами, блистая золотыми снурками венгерки, своим орлиным взором посевает тревогу и смятение в сердцах молодых красавиц, — все эти образы, сливаясь в одно смутно-обаятельное впечатление, решают судьбу юного и пылкого графа Ростова и побуждают его, бросив университет, в котором он, без сомнения, находил мало для себя привлекательного, кинуться стремглав и окунуться с головою в жизнь армейского гусара.
Борис вступает в свой полк спокойно и хладнокровно, держит себя со всеми прилично и кротко, но ни с полком вообще, ни с кем-либо из офицеров в особенности не завязывает никаких тесных и задушевных отношений. Ростов буквально бросается в объятия Павлоградского гусарского полка, пристращается к нему, как к своей новой семье, сразу начинает дорожить его честью, как своею собственною, из восторженной любви к этой чести делает опрометчивые поступки, ставит себя в неловкие положения, ссорится с полковым командиром, кается в своей неосторожности перед синклитом старых офицеров и, при всей своей юношеской обидчивости и вспыльчивости, покорно выслушивает дружеские замечания стариков, обучающих его уму-разуму и преподающих ему основные начала павлоградской гусарской нравственности.
Борис норовит улизнуть как можно скорее из полка куда-нибудь в адъютанты. Ростов считает переход в адъютанты какою-то изменою милому и родному Павлоградскому полку. Для него это почти все равно, что бросить любимую женщину, чтобы по расчету жениться на богатой невесте. Все адъютанты, все» «штабные молодчики», как он их презрительно называет, в его глазах какие-то бездушные и недостойные отступники, продавшие своих братьев по оружию за блюдо чечевицы. Под влиянием этого презрения он безо всякой уважительной причины, к ужасу и досаде Бориса, в квартире последнего заводит ссору с адъютантом Болконским, ссору, которая остается без кровопролитных последствий только благодаря спокойной твердости и самообладанию Болконского.
Ростов, к удивлению Бориса, бросает под стол рекомендательное письмо, выхлопотанное ему, Ростову, заботливыми родителями к князю Багратиону; при этом он, как мы уже знаем, прямо называет адъютантскую службу лакейскою. Он не задумывается над тем обстоятельством, что адъютанты совершенно необходимы в общем строе военного дела; он не останавливается на том соображении, что можно быть адъютантом, честно исполняя свои обязанности, принося постоянно истинную пользу общему ходу военных действий и нисколько не унижая ни перед кем своего личного человеческого достоинства. Он, очевидно, не в состоянии уловить и определить различие между писаною и неписаною субординациею, между служением лицам и служением делу. Он с негодованием отрицает адъютантство для себя и презирает его в других просто потому, что павлоградские офицеры, принимая в соображение его графский титул и хорошее состояние, на первых порах заподозрили его в намерении выпрыгнуть из полка в адъютанты, а он тотчас же с добродетельным ужасом стал открещиваться и отплевываться от такого оскорбительного подозрения в бессердечности.
Борис не становится ни к кому в восторженно-подобострастные ученические отношения; он всегда готов тонко и прилично льстить тому человеку, из которого он так или иначе надеется сделать себе дойную корову; он всегда готов подметить в другом, перенять и усвоить себе какую-нибудь сноровку, способную доставить ему успех в обществе и повышение по службе; но бескорыстное и простодушное обожание кого бы или чего бы то ни было ему совершенно несвойственно; он может стремиться только к выгодам, а никак не к идеалу; он может только завидовать и подражать людям, обогнавшим или обгоняющим его по службе, но решительно неспособен благоговеть перед ними, как перед яркими и прекрасными воплощениями идеала. У Ростова, напротив того, идеалы, кумиры и авторитеты, как грибы, на каждом шагу вырастают из земли. У него и Васька Денисов — идеал, и Долохов — кумир, и штаб-ротмистр Кирстен — авторитет. Веровать и любить слепо, страстно, беспредельно, преследуя ненавистью фанатика тех, кто не преклоняет колен перед воздвигнутыми идолами, — это неистребимая потребность его кипучей природы.
Эта потребность проявляется особенно ярко в восторженном взгляде на государя. Вот какими чертами граф Толстой изображает его чувства во время высочайшего смотра в Ольмюце. Эти черты характеризуют и время, и тот слой общества, к которому принадлежит Ростов, и личные особенности самого Ростова.
«Когда государь приблизился на расстояние 20-ти шагов и Николя ясно, до всех подробностей, рассмотрел прекрасное, молодое и счастливое лицо императора, он испытал чувство нежности и восторга, подобно которому он еще не испытывал».
Увидав улыбку государя, «Ростов сам невольно начал улыбаться и почувствовал еще сильнейший прилив любви к своему государю. Ему хотелось выказать чем-нибудь свою любовь к государю. Он знал, что это невозможно, и ему хотелось плакать».
Когда государь заговорил с командиром Павлоградского полка, Ростов подумал, что умер бы от счастия, ежели бы государь обратился к нему.
Когда государь стал благодарить офицеров, то «каждое слово слышалось Ростову, как звук с неба», и он сознал в себе и сформулировал совершенно ясно страстное желание «только умереть, умереть за него».
Когда солдаты, «надсаживая свои гусарские груди», закричали ура, то «Ростов закричал тоже, пригнувшись к седлу, что было его сил, желая повредить себе этим криком, только чтобы выразить вполне свой восторг государю».
Когда государь постоял несколько секунд против гусар, как будто в нерешимости, то «даже и эта нерешительность показалась Ростову величественной и обворожительной».
В числе господ свиты Ростов заметил Болконского, припомнил свою ссору с ним у Друбецкого, случившуюся накануне, и задал себе вопрос: следует или не следует вызывать его. «Разумеется, не следует, — подумал теперь Ростов… — И стоит ли думать и говорить про это в такую минуту, как теперь? В минуту такого чувства любви, восторга и самоотвержения что значат все наши ссоры и обиды? Я всех люблю, всем прощаю теперь».
Когда полки проходят церемониальным маршем мимо государя, когда Ростов на своем Бедуине самым эффектным образом проезжает вслед за своим эскадроном и когда государь говорит: «молодцы, павлоградцы!», тогда Ростов думает: «Боже мой, как бы я счастлив был, если бы он велел мне сейчас броситься в огонь».
Все эти черты собраны мною и перенесены сюда с точностью со страниц 70-73 первого тома {9}.
Три дня спустя Ростов еще раз видит государя и чувствует себя счастливым, «как любовник, дождавшийся ожидаемого свидания». Он, не оглядываясь, восторженным чутьем чувствует приближение государя. Здесь краски, употребляемые графом Толстым, вспыхивают такою ослепительною яркостью, что я, боясь ослабить или как-нибудь испортить то впечатление, которое они должны произвести на читателя, считаю необходимым привести цитату во всей ее неприкосновенности.
«И он чувствовал это (приближение) не по одному звуку копыт лошадей приближавшейся кавалькады, но он чувствовал это потому, что, по мере приближения, все светлее, радостнее и значительнее и праздничнее делалось вокруг него. Все ближе и ближе подвигалось это солнце для Ростова, распространяя вокруг себя лучи кроткого и величественного света, и вот он уже чувствует себя захваченным этими лучами, он слышит его голос — этот ласковый, спокойный, величественный и вместе с тем столь простой голос» (I, 84).
Фанатики-жрецы обыкновенно бывают более исключительны в своих страстях, чем то божество, которому они служат. Пылая всепоглощающею и ослепляющею любовью к своему божеству, эти жрецы доходят часто путем этой любви до таких крайних, уродливых и противоестественных чувств, которые могли бы только оскорбить, возмутить и прогневить божество, если бы оно узнало о их существовании.
Ростов видит государя на площади городка Вишау, где за несколько минут до приезда государя происходила довольно сильная перестрелка. На площади лежат еще не прибранные тела убитых и раненых. Государь, «склонившись набок, грациозным жестом держа золотой лорнет у глаза», смотрит на раненого солдата, лежащего ничком, без кивера, с окровавленною головою. Государь, очевидно, соболезнует о страданиях раненого; плечи его содрогаются, как бы от пробежавшего мороза, и левая нога его судорожно бьет шпорой бок лошади; один из адъютантов, угадывая мысли и желания государя, поднимает солдата под руки, а государь, услышав стон умирающего, говорит: «тише, тише, разве нельзя тише?» и при этом, по словам графа Толстого, видимо страдает больше, чем сам умирающий солдат. Слезы наполняют глаза государя, и, обращаясь к Чарторижскому, он говорит ему: «quelle terrible chose que la guerre!» {Какая ужасная вещь война! (фр.) — Ред.} В это же самое время Ростов, весь поглощенный своею восторженною любовью, преимущественно устремляет свое внимание на то обстоятельство, что солдат недостаточно опрятен, деликатен и великолепен, чтобы находиться вблизи государя и останавливать на себе его взоры. В солдате Ростов видит в эту минуту не умирающего человека, не мученика, мужественно принявшего страдание также за дело государя, а только грязное кровавое пятно, марающее ту картину, на которую обращены глаза государя, пятно, доставляющее государю неприятные ощущения, диссонанс, способный до некоторой степени расстроить нервы государя, наконец такой предмет, который виноват уже тем, что не может почувствовать _восторженным чутьем его приближение_ и сделаться, по мере этого приближения, _все светлее, и радостнее, и значительнее, и праздничнее_. Вот подлинные слова графа Толстого: «Солдат раненый был так нечист, груб и гадок, что Ростова оскорбила близость его к государю» (I, 85) {10}. Государь, по всей вероятности, не остался бы доволен, если бы мог себе представить, что любовь к нему побуждает молодых офицеров его верной и храброй армии смотреть с отвращением и почти с ненавистью на страдания умирающих солдат,
Борис тоже чувствует особенное волнение, когда приближается к особе государя, но его волнение совершенно непохоже на то, которое испытывает простодушный Ростов. Он волнуется потому, что чувствует себя возле источника власти, наград, почестей, богатства и вообще всех тех земных благ, добыванию которых он твердо решился посвятить всю свою жизнь. Он думает: ах, если бы мне да пристроиться тут поблизости, да утвердиться так, чтобы меня изо дня в день постоянно пригревали солнечные лучи! То корыстное волнение, которое в подобных случаях овладевает Борисом, только усиливает его внимательность, расторопность и находчивость. Он исполняет совершенно удовлетворительно два поручения к государю, данные ему во время службы, и приобретает себе даже в глазах императора Александра репутацию смышленого и рачительного офицера.
Волнение, овладевающее Ростовым, когда он видит государя и приближается к нему, отнимает у него способность размышлять и обсуживать свое положение. В день Аустерлицкого сражения посланный с поручением, которое он если не обязан, то по крайней мере имеет полное право и даже уполномочен передать государю, Ростов встречает государя в то время, когда битва окончательно и безвозвратно проиграна. Увидав государя, Ростов по обыкновению чувствует себя безмерно счастливым, отчасти потому, что видит его, отчасти и главным образом потому, что убеждается собственными глазами в неверности распространившегося слуха о ране государя. Ростов знает, что он может и даже должен прямо обратиться к государю и передать то, что ему было приказано. Но нахлынувшее на него волнение отнимает у него возможность во-время решиться; «как влюбленный юноша дрожит и млеет, не смея сказать того, о чем он мечтает целые ночи, и испуганно оглядывается, ища помощи или возможности бегства, когда наступила желанная минута и он стоит наедине с ней: так и Ростов теперь, достигнув того, чего он желал больше всего на свете, не знал, как подступить к государю, и ему представлялись тысячи соображений, почему это было неудобно, неприлично и невозможно» (I, 136) {11}.
Не решившись на то, _чего он больше всего желал на свете_, Ростов отъезжает прочь, _с грустью и с отчаянием в сердце_, и в ту же минуту видит, что другой офицер, увидав государя, прямо подъезжает к нему, предлагает ему свои услуги и помогает ему перейти пешком через канаву. Ростов издали с завистью и раскаянием видит, как этот офицер долго и с жаром говорит что-то государю и как государь жмет руку этому офицеру. Теперь, когда минута пропущена, Ростову представляются новые тысячи соображений, почему ему было удобно, прилично и необходимо подъехать к государю. Он думает про себя, что он, Ростов, мог бы быть на месте того офицера, которому государь пожал руку, что его подрезала его собственная позорная слабость и что он потерял единственный случай выразить государю свою восторженную преданность. Он повертывает лошадь, скачет к тому месту, где был государь, — там уж нет никого. Он уезжает в совершенном отчаянии, и в этом отчаянии — какому бы тонкому и тщательному анализу мы его ни подвергали — нет ничего сколько-нибудь похожего на мысль о том влиянии, которое разговор с государем мог бы обнаружить на дальнейший ход его службы. Это — простодушное и бескорыстное отчаяние влюбленного юноши, у которого, по милости его же собственной робости, остались тяжелым камнем на душе невысказанные и давно накипевшие слова почтительной страсти.
Сам Ростов неспособен анализировать свое чувство; он не может задать себе вопрос: почему я испытываю это чувство? — не может, во-первых, потому, что вообще не привык пускаться в психологические исследования и отдавать себе сколько-нибудь ясный отчет в своих ощущениях; а во-вторых, потому, что в этом вопросе ему совершенно справедливо чувствуется опасный зародыш разлагающего сомнения. Спросить: почему я испытываю то или другое чувство? — значит задуматься над теми причинами и основаниями, на которых держится это чувство, приступить к измерению, взвешиванию и оценке этих причин и оснований и заранее подчиниться тому приговору, который, после зрелых размышлений, будет произнесен над ними голосом нашего собственного рассудка. Кто ставит себе вопрос: почему? — тот, очевидно, чувствует необходимость указать своей страсти известные границы, на которых она должна остановиться, чтобы не вредить интересам целого. Кто ставит вопрос: почему? — тот уже признает существование таких интересов, которые для него важнее и дороже его чувства и во имя которых и с точки зрения которых желательно потребовать у этого чувства отчета в его происхождении. Кто ставит вопрос: почему? — тот уже обнаруживает способность до некоторой степени отрешаться от своего чувства и смотреть на него со стороны, как на явление внешнего мира, а между чувствами, совершенно не испытавшими над собою этой операции, и чувствами, на которые мы хотя раз, хоть на минуту, взглянули со стороны, взором наблюдателя, объективным оком, существует огромная разница. Как бы победоносно наше чувство ни выдержало испытание, все-таки над ним неизбежно совершится одна существенно важная перемена: прежде оно, не измеренное и не исследованное, казалось нам необъятным и беспредельным, потому что мы не знали ни его начала, ни его конца, ни его возможных последствий, ни его действительных оснований; теперь же оно, хотя и очень велико, однако введено в свои границы, которые нам хорошо известны. Прежде оно, само по себе, было целым миром, ни с чем не связанным, живущим своею самостоятельною жизнью, повинующимся только своим собственным законам, которых мы не знали, и неотразимо увлекающим нас в свою таинственную глубину, в которую мы погружались с трепетом мучительной радости и робкого благоговения; теперь оно сделалось явлением среди других явлений нашего внутреннего мира, явлением, на которое действуют многие другие, соприкасающиеся и сталкивающиеся с ним чувства, мысли и впечатления, — явлением, которое подчиняется законам, существующим вне его, и влияниям, действующим на него со стороны.
Очень многие и очень сильные чувства совсем не выдерживают испытания. Вопрос _почему_? становится их могилою. Удовлетворительный ответ на этот вопрос оказывается невозможным.
Ростов не спрашивает: _почему_? — не знает, почему, и не хочет этого знать. Он понимает правильным инстинктом, что вся сила его чувства заключается в его совершенной непосредственности и что самым твердым оплотом служит этому чувству то постоянно раскаленное настроение, вследствие которого он, Ростов, всегда готов видеть оскорбление святыни во всякой попытке, своей или чужой, стать к этому чувству или к каким бы то ни было его проявлениям в сколько-нибудь спокойные или рассудочные отношения.
«Я, — говорил Людовик Святой, — никогда и ни за что не буду рассуждать с еретиком; я просто пойду на него и мечом распорю ему брюхо». Так точно думает и чувствует Ростов. Он до последней крайности щекотлив ко всему, что сколько-нибудь отклоняется от тона восторженного благоговения, Вот какая сцена разыгрывается возле Вишау между Ростовым и Денисовым:
Поздно ночью, когда все разошлись, Денисов потрепал своей коротенькой рукой по плечу своего любимца Ростова.
— Вот на походе не в кого влюбиться, так он в ца’я влюбился, — сказал он.
— Денисов, ты этим не шути, — крикнул Ростоз, — это такое высокое, такое прекрасное чувство, такое…
— Ве’ю, ве’ю, д’ужок, и ‘азделяю, и одоб’яю.
— Нет, не понимаешь.
И Ростов встал и пошел бродить между костров, мечтая о том, какое было бы счастье умереть, не спасая жизнь (об этом он не смел и мечтать), а просто умереть в глазах государя (I, 87) {12}.
На Денисова, конечно, не может пасть подозрение в якобинстве. В этом отношении он стоит выше всякого сомнения, и Ростов это знает, но по своей щекотливости не может воздержаться от вскрикивания, когда Денисов позволяет себе добродушную дружескую шутку. В этой шутке Ростову чувствуется все-таки способность — отнестись, хоть на минуту, спокойно и хладнокровно к предмету его восторженного обожания. Этого уже достаточно, чтобы вызвать с его стороны вспышку негодования. Поставьте на место лихого павлоградского гусара и отличного товарища Денисова какого-нибудь постороннего человека, замените добродушную дружескую шутку словами, выражающими серьезное сомнение, и вы тогда, конечно, получите в результате со стороны Ростова не вскрикивание, а какой-нибудь резкий, насильственный поступок, напоминающий программу Людовика Святого.
Проходит два года. Вторая война с Наполеоном заканчивается поражением наших войск при Фридланде и свиданием императоров в Тильзите. Множество виденных событий, политических и неполитических, множество воспринятых впечатлений, крупных и мелких, задают уму Ростова мучительную работу, превышающую его силы, и возбуждают в нем рой тяжелых сомнений, с которыми он не умеет управиться,
Приехав в свой полк весною 1807 года, Ростов застает его в таком положении, что лошади, безобразно худые, едят соломенные крыши с домов, а люди, не получая никакого провианта, набивают себе желудки каким-то сладким машкиным корнем, растением, похожим на спаржу, от которого у них пухнут руки, ноги и лицо. В столкновениях с неприятелем Павлоградский полк потерял только двух раненых, а голод и болезни истребили почти половину людей. Кто попадал в госпиталь — умирал наверное; и солдаты, больные лихорадкою и опухолью, несли службу, через силу волоча ноги во фронте, лишь бы только не идти в больницу, на верную и мучительную смерть.
В обществе офицеров господствует то убеждение, что все эти бедствия происходят от колоссальных злоупотреблений в провиантском ведомстве; и это убеждение поддерживается тем обстоятельством, что все подвозимые припасы оказываются самого дурного качества. Ужасное и отвратительное положение госпиталей и беспорядок в подвозе провианта также не могут быть объяснены никакими естественными бедствиями, независимыми от воли человека.
Васька Денисов, добродушный, честный и храбрый гусарский майор, любит свой эскадрон, как свою семью, и видит с ожесточением, как на его глазах хиреют и мрут его солдаты. Прослышав о том, что в пехотный полк, стоящий по соседству, идет транспорт провианту, Денисов едет насильно отбивать эти припасы и действительно выполняет свое намерение, рассуждая так, что не умирать же в самом деле павлоградским гусарам от голода и от сладкого машкина корня. Полковой командир, узнав об этом подвиге Денисова, говорит ему, что готов смотреть на это сквозь пальцы, но советует Денисову съездить в штаб и уладить дело в провиантском ведомстве.
Денисов едет и начинает объясняться с провиантским чиновником, которого он потом, в разговоре с Ростовым, называет обер-вором. С первых же слов Денисов говорит обер-вору, что «разбой не тот делает, кто берет провиант, чтоб кормить своих солдат, а тот, кто берет его, чтоб класть в карман». После такого дебюта полюбовное окончание дела становится невозможным. По приглашению обер-вора Денисов идет расписываться у комиссионера и тут за столом видит уже настоящего вора, бывшего павлоградского офицера Телянина, укравшего у него, Денисова, кошелек с деньгами, уличенного в этом Ростовым, выключенного из полка и пристроившегося потом к провиантскому ведомству. Тут разыгрывается сцена, которую сам Денисов следующим образом описывает Ростову:
«Как, ты нас с голоду моришь?!» Раз, раз по морде, ловко так пришлось… «А… распротакой-сякой», и… начал катать. — Зато натешился, могу сказать, — кричал Денисов, радостно и злобно из-под черных усов оскаливая свои белые зубы. — Я бы убил его, кабы не отняли (II, 161) {13}.
Разумеется, завязывается дело. Майора Денисова обвиняют в том, что он, отбив транспорт, без всякого вызова, в пьяном виде явился к обер-провиантмейстеру, назвал его вором, угрожал побоями, и когда был выведен вон, то бросился в канцелярию, избил двух чиновников и одному вывихнул руку.
Пока тянется предварительная переписка по этому делу, Денисов в одной рекогносцировке получает рану и уезжает в госпиталь.
После Фридландского сражения, во время перемирия, Ростов едет проведать Денисова и собственными глазами видит, какой уход достается на долю раненым героям. При самом входе доктор предупреждает его, что _тут дом прокаженных, тиф; кто ни взойдет — смерть_, и что здоровому человеку не следует входить, если он не желает тут и остаться. В темном коридоре Ростова охватывает такой сильный и отвратительный больничный запах, что он принужден остановиться и собраться с силами, чтобы идти дальше. Ростов входит в солдатские палаты и видит, что тут больные и раненые лежат в два ряда, головами к стенам, на соломе или на собственных шинелях, без кроватей. Один больной казак лежит навзничь, поперек прохода, раскинув руки и ноги, закатив глаза и повторяя хриплым голосом: «испить — пить — испить!» Его никто не поднимает, ему никто не дает глотка воды, и больничный служитель, которому Ростов приказывает помочь больному, только старательно выкатывает глаза и с удовольствием говорит: «слушаю, ваше высокоблагородие», но не трогается с места. В другом углу Ростов видит рядом с старым безногим солдатом молодого мертвеца и узнает от безногого старика, что его сосед «еще утром кончился» и что его, несмотря на усиленные и неоднократные просьбы больных, до сих пор не убирают.
Денисов сначала горячо толкует о том, что он выводит на чистую воду казнокрадов и разбойников, и читает в продолжение часа с лишком Ростову свои ядовитые бумаги, писанные в ответ на запросы военносудной комиссии, но потом убеждается, что _плетью обуха не перешибешь_, и вручает Ростову большой конверт с просьбою о помиловании на имя государя.
Ростов едет в Тильзит, находит случай передать государю просьбу Денисова через одного кавалерийского генерала и слышит собственными ушами, как государь отвечает громко:
«Не могу, генерал, и потому не могу, что закон сильнее меня».
В Тильзите Ростов видит радостные лица, блестящие мундиры, сияющие улыбки, светлые картины мира, изобилия и роскоши — самую резкую противоположность всего того, что видел в землянках Павлоградского полка, и на полях сражения, и в том доме прокаженных, в котором изнывает раненый подсудимый Денисов.
Эта противоположность смущает его, нагоняет к нему в голову вихри непрошенных мыслей и поднимает в душе его тучи небывалых сомнений. Борис сразу, без малейшей борьбы, признал генерала Бонапарте императором Наполеоном и великим человеком и даже постарался устроить так, чтобы его готовность и старательность по этой части была замечена начальством и вменена ему в достоинство. Борис так же охотно и с такою же приятною улыбкою признал бы уличенного вора Телянина за честнейшего человека и за доблестнейшего патриота, ежели бы такое признание могло понравиться начальству. Борис, без всякого сомнения, не позволил бы себе разбойничьего нападения на свои же русские транспорты, чтобы доставить обед и ужин голодным солдатам своей роты. Борис, конечно, не произвел бы дикого насилия над особою русского чиновника, какими бы двусмысленными поступками ни было наполнено прошедшее этого чиновника. Борис, разумеется, охотнее протянул бы руку Телянину, которого начальство признает честным гражданином, чем Денисову, которого военный суд будет принужден наказать, как грабителя и буяна.
Если бы Ростов был способен усвоить себе беззастенчивую и неустрашимую гибкость Бориса, если бы он раз навсегда отодвинул в сторону желание любить то, чему он служит, и служить тому, что он любит, — то, конечно, тильзитские сцены своим блеском произвели бы на него самое приятное впечатление, госпитальные миазмы заставили бы его только покрепче зажимать себе нос, а денисовское дело навело бы его на поучительные размышления о том, как вредно бывает для человека неумение обуздывать свои страсти. Он не стал бы смущаться контрастами и противоречиями; довольствуясь тою истиною, что существующее существует и что для успешного прохождения служебного поприща надо изучать требования действительности и приноровляться к ним, он не стал бы настоятельно желать, чтобы все существующее было в самом себе стройно, разумно и прекрасно.
Но Ростов не видит и не понимает, за какие заслуги генерал Бонапарте произведен в императоры Наполеоны; он не видит и не понимает, почему он, Ростов, сегодня должен любезничать с теми французами, которых он вчера должен был рубить саблей; почему Денисов за свою любовь к солдатам, которых он обязан был беречь и лелеять, и за свою ненависть к ворам, которых ему никто не приказывал любить, должен быть расстрелян или по меньшей мере разжалован в солдаты; почему люди, храбро сражавшиеся и честно исполнявшие свой долг, должны, под присмотром фельдшеров и военных медиков, умирать медленною смертью в домах прокаженных, в которые опасно входить здоровому человеку; почему негодяи, подобные исключенному офицеру Телянину, должны иметь обширное и Деятельное влияние на судьбу русской армии.
Опытный человек на месте Ростова успокоился бы на том соображении, что абсолютное совершенство недостижимо, что человеческие силы ограничены и что ошибки и внутренние противоречия составляют неизбежный удел всех людских начинаний. Но опытность приобретается ценою разочарований, а первое разочарование, первое жестокое столкновение блестящих ребяческих иллюзий с грубыми и неопрятными фактами действительной жизни составляет обыкновенно решительный поворотный пункт в истории того человека, который его испытывает.
После этого первого столкновения цельные верования детства в легкое, неизбежное и всегдашнее торжество добра и правды, верования, вытекающие из незнания зла и лжи, — оказываются разбитыми; человек видит себя среди колеблющихся развалин; он старается прицепиться к осколкам того здания, в котором он надеялся благополучно провести всю свою жизнь; он ищет в груде разрушенных иллюзий хоть чего-нибудь крепкого и прочного; он пытается построить себе из уцелевших обломков новое здание, поскромнее, но зато и понадежнее первого; эта попытка ведет за собою неудачу и порождает новое разочарование. Развалины разлагаются на свои составные части; обломки крошатся на мелкие кусочки и превращаются в тонкую пыль под руками человека, добросовестно старающегося удержать их в целости. Идя от разочарования к разочарованиям, человек приходит, наконец, к тому убеждению, что все его мысли и чувства, напущенные в него неизвестно когда и выросшие вместе с ним, нуждаются в самой тщательной и строгой проверке. Это убеждение становится исходною точкою того процесса развития, который может привести человека к более или менее ясному и отчетливому пониманию всего окружающего.
Мужественно выдержать первое разочарование способен не всякий. К числу этих неспособных принадлежит и наш Ростов. Вместо того чтобы вглядеться в те факты, которые опрокидывают его младенческие иллюзии, он с трусливым упорством и с малодушным ожесточением зажмуривает глаза и гонит прочь свои мысли, как только они начинают принимать чересчур непривычное для него направление. Ростов не только зажмуривается сам, но также с фанатическим усердием старается зажимать глаза другим.
Потерпев неудачу по денисовскому делу и насмотревшись на тильзитский блеск, коловший ему глаза, Ростов избирает благую часть, которая никогда не отнимается от нищих духрм и богатых наличными деньгами. Он заливает свои сомнения двумя бутылками вина и, доведя свою гусарскую лихость до надлежащих размеров, начинает кричать на двух офицеров, выражавших свое неудовольствие по поводу тильзитского мира.
— И как вы можете судить, что было бы лучше! — закричал он с лицом, вдруг налившимся кровью. — Как вы можете судить о поступках государя, какое мы имеем право рассуждать?! Мы не можем понять ни цели, ни поступков государя.
— Да я ни слова не говорил о государе, — оправдывался офицер, иначе как тем, что Ростов пьян, не могший объяснить себе его вспыльчивости.
Но Ростов не слушал его.
— Мы не чиновники дипломатические, а мы солдаты и больше ничего, — продолжал он. — Умирать велят нам — так умирать (этими словами Ростов разрешает сомнения, возбужденные в нем домом прокаженных). А коли наказывают, так, значит, виноват; не нам судить (это — по денисовскому делу). Угодно государю императору признать Бонапарте императором и заключить с ним союз, значит, так надо (а это — примирение с тильзитскими сценами). А то, коли бы мы стали обо всем судить да рассуждать, так этак ничего святого не останется. Этак мы скажем, что ни бога нет, ничего нет, — ударяя по столу, кричал Николай, весьма некстати по понятиям своих собеседников, но весьма последовательно по ходу своих мыслей.
— Наше дело исполнять свой долг, рубиться и не думать, вот и все, — заключил он.
— И пить, — сказал один из офицеров, не желавший ссориться.
— Да, и пить, — подхватил Николай. — Эй ты! Еще бутылку! — крикнул он (II, 185) {14}.
Во-время выпитые две бутылки наградили молодого графа Ростова вернейшим лекарством против разочарований, сомнений и всевозможной мучительной внутренней ломки и переборки. Кому посчастливилось во время первой умственной бури открыть спасительную формулу: _наше дело не думать_, и успокоить себя этого формулою, хотя бы на минуту, хотя бы при содействии двух бутылок, — тот, по всей вероятности, всегда будет убегать под защиту этой формулы, как только в нем начнут шевелиться неудобные сомнения и его станет одолевать тревожный позыв к свободному исследованию. _Наше дело не думать_ — это такая неприступная позиция, которую не могут разбить никакие свидетельства опыта и перед которою останутся бессильными всякие доказательства. Свободной мысли негде высадиться, и ей невозможно укрепиться на том берегу, на котором возвышается эта твердыня. Спасительная формула подрезывает ее при первом ее появлении. Чуть только человек захватит самого себя на деле взвешивания и сопоставления воспринятых впечатлений, чуть только он подметит в себе поползновение размышлять и обобщать невольно собранные факты — он тотчас, опираясь на свою формулу и припоминая то чудесное успокоение, которое она ему доставила, скажет себе, что это грех, что это дьявольское наваждение, что это болезнь, и пойдет лечиться вином, криком, цыганами, псовою охотою и вообще тою пестрою сменою сильных ощущений, которую может доставить себе плотно сложенный и состоятельный русский дворянин.
Если вы станете доказывать такому укрепившемуся человеку, что его спасительная формула неразумна, то ваши доказательства пропадут, даром. Формула и с этой стороны обнаружит свою несокрушимость. Драгоценнейшее из ее достоинств состоит именно в том, что она не нуждается ни в каких разумных основаниях и даже исключает возможность таких оснований. В самом деле, чтобы доказывать разумность или неразумность формулы, чтобы нападать или защищать ее, надо думать, а так как _наше дело не думать_, то и всякого рода доказывания, сами по себе, независимо от тех целей, к которым они клонятся, должны быть признаны излишними и предосудительными.
Ростов остается неизменно верен правилу, открытому в тильзитском трактире, при содействии двух бутылок вина. Мышление не обнаруживает никакого влияния на всю его дальнейшую жизнь. Сомнения не нарушают больше его душевного спокойствия. Он знает и хочет знать только свою службу и благородные развлечения, свойственные богатому помещику и лихому гусару. Его ум отказывается от всякой работы, даже от той, которая необходима для спасения родового имущества от козней плутующего, но очевидно малограмотного приказчика Митеньки.
Он с большою энергиею кричит на Митеньку и очень ловко толкает его ногой и коленкой под зад, но после этой бурной сцены Митенька остается полновластным распорядителем в имении, и дела продолжают идти прежним порядком.
Не умея даже привести в порядок свои денежные дела и унять домашнего вора, Ростов тем более не умеет и не желает осмысливать свою жизнь каким-нибудь занятием, требующим сколько-нибудь сложных и последовательных умственных операций. Книги для него, по-видимому, не существуют. Чтение, кажется, не занимает в его жизни никакого места, даже как средство убивать время. Даже московская светская жизнь представляется ему слишком запутанною и мудреною, слишком переполненною сложными соображениями и головоломными тонкостями. Его удовлетворяет вполне только жизнь в полку, где все определено и размерено, где все ясно и просто, где думать решительно не о чем и где нет места для колебаний и свободного выбора. Ему нравится полковая жизнь в мирное время, нравится именно тем, чем она невыносима человеку, сколько-нибудь способному мыслить: нравится своею спокойною праздностью, невозмутимою рутинностью, сонным однообразием и теми оковами, которые она налагает на всевозможные проявления личной изобретательности и оригинальности.
Так как мир мысли закрыт для Ростова, то развитие его на двадцатом году жизни оказывается законченным. К двадцати годам все содержание жизни для него уже исчерпано; ему остается только сначала грубеть и глупеть, а потом дряхлеть и разлагаться. Это отсутствие будущности, это роковое бесплодие и неизбежное увядание скрыты от глаз поверхностного наблюдателя внешним видом свежести, силы и отзывчивости. Глядя на Ростова, поверхностный наблюдатель скажет с удовольствием: «Как в этом молодом человеке много огня и энергии! Как смело и весело он смотрит на жизнь! Какое в нем обилие неиспорченной и нерастраченной юности!»
На такого поверхностного наблюдателя Ростов произведет, по всей вероятности, отрадное впечатление, Ростов ему понравится, как он, без сомнения, понравился многим читателям и даже, быть может, самому автору романа. Поверхностному наблюдателю не придет в голову, что в Ростове нет именно того, что составляет самую существенную и глубоко трогательную прелесть здоровой и свежей молодости.
Когда мы смотрим на сильное и молодое существо, то нас волнует радостная надежда, что его силы вырастут, развернутся, приложатся к делу, примут деятельное участие в великой житейской борьбе, увеличат хоть немного массу существующего на земле живительного счастия и уничтожат хоть частицу накопившихся нелепостей, безобразий и страданий. Мы еще не знаем той границы, на которой остановится развитие этих сил, и именно эта неизвестность составляет в наших глазах величайшую обаятельность молодого существа. Кто знает? — думаем мы: может быть, тут вырабатывается перед нами что-то очень большое, чистое, светлое, сильное и неустрашимое. Молодое существо, полное жизни и энергии, составляет для нас самую занимательную загадку, и эта загадочность придает ему особенную привлекательность.
Именно этой обаятельной загадочности нет в Ростове, и только поверхностный наблюдатель может, глядя на него, сохранять неопределенную надежду, что его нерастраченные силы на чем-нибудь хорошем сосредоточатся и к чему-нибудь дельному приложатся. Только поверхностный наблюдатель может, любуясь его живостью и пылкостью, оставлять в стороне вопрос о том, пригодится ли на что-нибудь эта живость и пылкость.
Поверхностный наблюдатель способен залюбоваться юношескою горячностью Ростова, например, во время псовой охоты, когда он обращается к богу с мольбою о том, чтобы волк вышел на него, когда он говорит, изнемогая от волнения: «Ну, что тебе стоит сделать это для меня? Знаю, что ты велик и что грех тебя просить об этом; но, ради бога, сделай, чтобы на меня вылез матерый и чтобы Карай, на глазах дядюшки, который вон оттуда смотрит, вцепился ему мертвой хваткой в горло», — когда Он во время травли переходит от беспредельной радости к самому мрачному отчаянию, с плачем называет старого кобеля Карая отцом и, наконец, чувствует себя счастливым, видя волка, окруженного и разрываемого собаками.
Кто не останавливается на веселой наружности явлений, того шумная и оживленная сцена охоты наведет на самые печальные размышления. Если такая мелочь, такая дрянь, как борьба волка с несколькими собаками, может доставить человеку полный комплект сильных ощущений, от исступленного отчаяния до безумной радости, со всеми промежуточными полутонами и переливами, то зачем же этот человек будет заботиться о расширении и углублении своей жизни? Зачем ему искать себе работы, зачем ему создавать себе интересы в обширном и бурном море общественной жизни, когда конюшня, псарня и ближайший лес с избытком удовлетворяют всем потребностям его нервной системы?
——
Разбор отношений Ростова к любимой женщине, анализ других характеров, более сложных, именно: Пьера Безухова, князя Андрея Болконского и Наташи Ростовой, а также общие выводы касательно всего общества, изображенного в романе, я считаю необходимым отложить до выхода в свет четвертого тома,
ПРИМЕЧАНИЯ
В примечаниях принято следующее сокращение: 1-е изд. — Писарев Д. И. Соч. Изд. Ф. Павленкова в 10-ти ч. СПб., 1866-1869.
СТАРОЕ БАРСТВО
Впервые — «Отечественные записки», 1868, Ќ 2, отд. II. «Современное обозрение», с. 263-291, без подписи. Затем-1-е изд., ч. 10 (1869), с. 254-283. Здесь воспроизводится по тексту 1-го изд. с исправлением отдельных корректурных погрешностей журнальной публикации. В оглавлении Ќ 2 «Отечественных записок» указано: «Статья первая». Это свидетельствует о намерении Писарева дать ряд статей о романе Толстого и его героях. Однако этот замысел остался неосуществленным.
«Война и мир» цитируется в статье по первому изданию романа (1868). В первом и втором изданиях «Войны и мира» (1868-1869) роман делился на шесть томов. Том первый этих изданий содержал части 1-3 первого тома по позднейшему (начиная с 3-го издания 1873 года) делению романа на четыре тома, том второй — части 12, а том третий — части 3-5 тома второго. Статья Писарева касалась содержания трех вышедших к началу 1868 года томов первого издания, что соответствует двум первым томам по позднейшему разделению романа. Том 1 в первом издании 1868 года имел раздельную пагинацию входивших в него частей 1-3. В следующих далее примечаниях к ссылкам на тома и страницы издания 1868 года, имеющиеся в тексте статьи, даются указания на соответствующие части и главы первого и второго томов по принятому делению.
1 Цитата из гл. IX ч. 3 т. 1.
2 См. гл. VII ч. 3 т. 1.
3 См. гл. VI ч. 2 т. 2.
4 См. гл. XIX ч. 2 т. 2.
5 См. гл. XII ч. 3 т. 2.
6 Упоминаются события, о которых речь идет в гл. XIII и XVI ч. 3 т. 2.
7 См. гл. V ч. 5 т. 2.
8 Цитата из гл. V ч. 5 т. 2 с небольшими изменениями текста.
9 См. гл. VIII ч. 3 т. I.
10 См. гл. X ч. 3 т. I.
11 См. гл. XVIII ч. 3 т. 1.
12 См. гл. X ч. 3 т. 1.
13 См. гл. XVI ч. 2 т. 2.
14 Цитата из гл. XXI ч. 2 т. 2. В скобках — замечания Писарева.